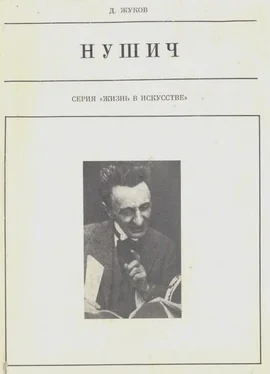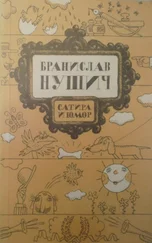Вот так! Разве я был недостаточно смел, обвиняя себя, разве я не излил столько желчи, сколько ее могло излить только чужое перо, и разве, наконец, совершая харакири, я не получил права защищаться?»
Легче всего было сравнить, что сделал за свою жизнь Нушич, а что — любой из академиков литераторов. Но это было бы несолидно. Важно разобраться, чем он заслужил неуважительное отношение. И в нем ли самом дело?
«Моя трагедия заключается главным образом в том, что я юморист. Во все времена и у всех народов юмористы расплачивались за сладость своих успехов горечью недооценки».
Он ссылается на слова Тристана Бернара, французского юмориста: «Я больше ценю суд публики, чем суд критики, так как юмористы не стремятся удивлять, а хотят любви общества».
Нушич с горечью говорит о предрассудке, питаемом в отношении остроумных людей. Некогда деды, сидя на завалинке, с удовольствием слушали остроумца, но потом представление о легковесности этого человека укоренялось и переносилось в суждения о любом его деле или поступке.
Ага вспоминает «грешного» Йована Стерню Поповича, который в свое время поддался уговорам стать «серьезным человеком», бросил фельетон и комедию, создавшие ему имя, и вернулся к писанию сухих патетических драм, не имевших никакого успеха. Но зато Стерня вырос в глазах профессоров.
И вот тут хочется остановить внимание читателя и отметить, что в ходе рассуждений Нушича намечается резкий сдвиг в целом его творчестве. Где-то в глубине сознания он понимает, что и сам он потратил слишком много сил, чтобы понравиться профессорам. Что он напрасно ударялся в патетику, сдерживая в себе редкостный талант юмориста.
Беспокойство, ощущение вины перед собственным талантом приводит его в состояние раздраженности. Его бесят лицемеры-академики, прячущие свою убогость за выспренними речами. Посредственности прячутся за тщательно разработанную фразеологию, придающую вид учености любой глупости, сказанной ими.
«…Они, как плохие пловцы, не имеют ни силы, ни смелости удалиться от берега посредственности… Как и все смертные, они подвержены предрассудку, будто остроумие — синоним несерьезности, и, забывая об Аристофане, Плавте и всех их литературных потомках, считают средневековых придворных шутов праотцами остроумия».
Нушич никогда не защищал себя в печати от нападок критики, и теперь он делает это здесь, в письме к дочери.
«Поколение импотентов ставит мне в грех плодовитость; это они-то, чьи сочинения похожи на натужный стон, упрекают меня в том, что я быстро пишу…».
И следует признание, которое подтверждает мнение его современников, утверждавших, что Нушич творил «с буйной легкостью природы», как Моцарт или Байрон, что он не знал мук Флобера и Горация.
«В то время, как я пишу какой-нибудь рассказ, мне не дают покоя еще пять или шесть других мотивов, а когда я пишу комедию, то замыслы пяти-шести готовых, совершенно разработанных сюжетов, толкаясь, обступают меня, теребят и торопят, чтобы я за них принялся. Напротив, я очень мало дал по сравнению с тем, что мог бы дать, если бы в жизни у меня были условия получше».
А судьи кто? С вершины академического Олимпа ему выносит приговор какой-нибудь критик, за полстолетия написавший всего полдесятка эссе; поэт, разразившийся за тридцать лет всего двадцатью стихотворениями; «некий прославленный талант, который двадцать пять лет назад оседлал сцену с одной-единственной пьесой».
А ведь это и в самом деле так. Критиками Нушича были по большей части драматурги, которые после одной-двух поставленных пьес целиком посвящали себя составлению пространных статей, в которых, становясь в позу мэтров, поучали других. Теперь никто не помнит даже названий их произведений. И большинству из них подняться на сцену помогал не кто иной, как Нушич.
Нушич обнаруживает глубокое понимание национальной сущности литературы. Он считает, что современные ему критики сформировались под иностранным влиянием.
«Они с шекспировской сцены поглядывают на нашу драму; они с Достоевским в руке оценивают наш рассказ; прочитав Диккенса, они судят о Нушиче. Однако они не учитывают, что в юмористике, больше чем в каком-либо другом роде литературы, всякое явление должно проистекать из характера мышления данного народа и данной среды, другими словами: у каждого народа свой юмор. Разве нет различия между юмором Твена и Чехова, между юмором Диккенса и Куртелана, разве всякий юмор не является выражением остроумия данной среды?.. И если бы кто-нибудь, выслушав эту ясную и очевидную истину, надулся бы и стал в фальшивую профессорскую позу, восклицая: „Но литература не должна поощрять недостатки своей среды, а ей надо и т. д.“, я бы ему ответил, что юмор не ставит своей целью воспитание народа, хотя и оказывает этому воспитанию неоценимую услугу, показывая в смешном виде человеческие слабости».
Читать дальше