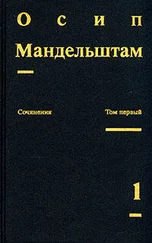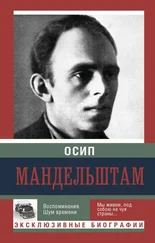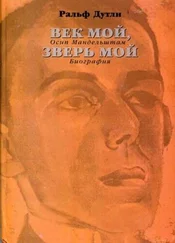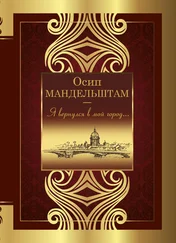К счастью, я довольно скоро узнала про смерть Мандельштама и задумалась, куда бы мне приткнуться. Я решила ехать в Калинин. Вещи уже были в вагоне, а я стояла на платформе, и тут мне рассказали про то, что за мной приходили с ордером. Мне показалось слишком трудным сгружать вещи, я махнула рукой и села в вагон, решив, что будь что будет. Настало время законности – уже вместо Ежова пришел Берия. Он посадил Бабеля, Мейерхольда и толпы других, а меня почему-то забыл. Мне сошло с рук возвращение в Калинин. Там я работала сначала надомницей в артели, делавшей игрушки. Потом меня приняли на работу в школу. Мне предстояла еще эвакуация, вернее, бегство от немцев, и я везла свои бумажки в сумке, которую не выпускала из рук. Сначала я попала на остров Муйнак на Аральском море и видела в больнице «лепрозную дамочку», как выразилась докторша. Перезимовала я в деревне под Джамбулом, а весной меня нашел брат и Ахматова вырвала для меня пропуск в Ташкент. Мне еще предстояли бесконечные скитания по стране в поисках работы. Могу засвидетельствовать только одно – с годами боль не проходит и не смягчается. Исчезает только острое оцепенение первых дней, недель, месяцев, а может, и лет, когда перед глазами непрерывно разыгрывается «единственное, что мы знаем днесь»… Тогда, больше чем тридцать лет назад, я была старше, чем сейчас, когда Мандельштам уже одержал победу и продолжает оставаться под запретом в своей стране, верной старым принципам и целям. Запрет – своего рода легализация, и я принимаю его как должное. Что-то мне в этом запрете даже лестно и приятно.
Сразу после смерти Мандельштама я прожила несколько недель в Малом Ярославце с Галиной Мекк, вернувшейся из лагеря и гордой тем, что не позволила себе умереть. Она говорила мне: «Надя, я думала, что люди вашей нации крепче…» Я отвечала ей что-то про немецких баронов и шла в лавку за нашими жалкими покупками. Галина безжалостно трясла меня и заставляла непрерывно шевелиться. В лавке, как всегда и везде, стояла очередь. Я выстаивала очередь, призакрыв глаза и разыгрывая заново в мельчайших подробностях сцену ареста. Иногда я видела с остротой галлюцинации груду людей в сером лагерном тряпье и старалась среди них различить умирающего Мандельштама. Внезапно очередь начинала ругаться, и я, очнувшись, вздрагивала от злобного голоса продавщицы. Она злилась и спрашивала, чего мне нужно. Я не помнила, что мне нужно и зачем я пришла. С трудом преодолев инерцию молчания – губы двигались, но звук не образовывался, – я просила отвесить сахару, если тогда был сахар, соли или крупы. Часто я приносила совсем не то, что просила Галина, и она снова гнала меня в лавку. Она тормошила меня, заставляла отвечать на вопросы и все время гоняла в лавку: «Иначе вы уснете и не проснетесь».
Я знала, что не имею права уснуть и не проснуться, поэтому ходила в лавку и делала все, что говорила Галина. А по вечерам я слушала ее бред, потому что у нее только что забрали лагерного мужа. Он был для нее светлым царевичем, потому что, сойдясь с ним, она поверила, что жизнь началась снова. Чаще всего я сидела с матерью Галины, у которой расстреляли мужа. Она всегда рассказывала про свидание с мужем – как вывели седого старика и он закричал и заплакал: «Не верь, не верь ничему…» Его увели, и они не простились. Мать Галины не бредила, потому что надеялась на встречу. Она ждала смерти, но не знала, как доверить дочерям маленького внука. Это она заставила меня учиться читать, потому что знала по опыту: бездетным помогают только книги. Училась я читать по книгам, которые требуют непрерывного внимания. То были грамматики древних и новых языков да еще несколько книжек по языкознанию. Но прочесть я могла только несколько строчек, потому что на странице вдруг появлялось пятно – груда тел в лагерных ватниках.
Втроем мы часто читали кусочки из Шекспира, чаще всего про мать маленького Артура, которая боялась, что не узнает на небесах сына, истрепанного лихорадкой, измученного злодеями, потерявшего свой прелестный облик из-за страшного жизненного опыта. Я удивлялась, что англичане, читавшие про маленького Артура – как он словами смягчил сердце палачей, – не разучились убивать. Галина утверждала, что палачи, после Шекспира продолжавшие крошить и убивать, просто не видели этой хроники: Шекспира на долгое время перестали ставить и читать. (Я часто встречала англичан и американцев, переселившихся к нам, которые хохотали, услыхав, что я постоянно читаю Шекспира: зачем вам такое старье!) Я плакала по ночам, что палачи никогда не читают ничего, что могло бы их смягчить. Я плачу и сейчас. Но сама я тоже ничего почти не читала ни в Малом Ярославце, ни потом в Калинине (это Тверь, просто Тверь). Только потом в Ташкенте я научилась грамоте, когда вместе с Ахматовой перечитывала Достоевского.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу