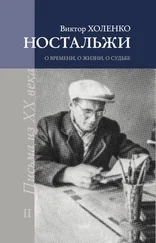— Но этого же мало, — настойчиво убеждал художник. — Нет разницы между порядочной дамой и проституткой, художником и вором, сутенером и ученым.
— Это слишком парадоксально! — отвечали дамы, пожимая плечами.
— Нисколько. Мы все — колесики одной машины, которая и в мирное, и в военное время делает деньги из всякой мерзости, разумеется, после ее предварительной обработки ложью. Эта машина — буржуазное общество — я, вы, сэр Ганри и капрал Богарт. Разница совсем не в том, что капрал убивает, а мы — нет. В любой мясорубке для движения одного резца нужны многие поддерживающие его части. Они ничего не режут, они мирные, чистые и честные. Ваш сын, мадам, араба, пришедшего пожаловаться на насилие, совершенное легионерами над его женой, не вешал, жаловавшийся повешен мерзавцем сержантом. Но лейтенант покрыл сержанта, полковник — лейтенанта, генерал — полковника, президент — генерала, папа римский — президента. Прямая зависимость в нашем обществе. Напрасно вы думаете, что раздел идет по линии прямого участия в преступлении и поэтому вы чисты. Нет, на самом деле все наше общество преступно в целом, и, чтобы сохранить чистоту, нужно выйти из него.
— Значит, мсье Мандель, Адриенна и я — преступники и непорядочные люди?
— Конечно. Ведь вы же не вышли из общества.
Дамы испуганно переглянулись, глаза говорили: «Сумасшедший? Очевидно».
— Ну а вы сами, мсье ван Эгмонт? — спросила Адриенна.
— Я этому обществу объявил войну и выключился из него. Смотрите! — он вытянул длинные ноги в стоптанных и грубых ботинках. — Я скоро буду ходить на собственных подошвах, и этими дырами на подошвах куплено право называться честным человеком.
Все молчат. Напряженно думают, волнуются и мысленно друг с другом спорят. Наконец Адриенна находит аргумент.
— Грубые или элегантные ботинки и дыры на подошвах не искупают вины, мсье. Кто знает, какие были сапоги у капрала Богарта. Вы их осматривали? Нет? И это, по-вашему, важно? Нельзя судить людей по их сапогам! Нет, на роль проповедника вы не годитесь. Вы из-за какой-то пустой затеи косвенно погубили двадцать два человека и застрелили одного. Мсье, вы — уголовный преступник, и ваше счастье, что эти жертвы — негры: будь они голландцами или французами, вы были бы давно казнены.
Враждебная пауза.
— Самое страшное, что у вас после всего содеянного вами не видно искреннего и глубокого раскаяния. У вас нет отчаяния и ненависти к своим же поступкам. Полагаю, вы чудесно спите по ночам, не так ли? К убийству человека с черной кожей вы отнеслись спокойнее и равнодушнее, чем бельгийский губернатор!
Ван Эгмонт вспыхивает. Он чувствует несправедливость этих слов, хотя Адриенна формально была права.
— Вы считаете меня негодяем и пустозвоном?
— У меня, кроме ваших же слов, против вас нет свидетелей.
Ван Эгмонт встает, кланяется и уходит.
— Пойми, мама, я не могла молчать! Мсье ван Эгмонт здесь не причем. Я сделала это для себя самой. Нужно додумать все до конца. Если он прав, то это — пропасть. Если мы хотим перед собой, папой и Лионелем быть честными, то мы обязаны в эту пропасть броситься вниз головой. И это будет ломка всей нашей жизни! Подумать страшно… Если же сделать скидку для мсье ван Эгмонта из-за его дырявых подошв, то придется оправдать всех и, прежде всего, нас самих. Тогда все по-прежнему останется на месте: мы — здесь, а папа, Лионель и безрукий старик — там. Это соблазнительно, но подло. Нужно подумать и… решиться, мама. У мсье ван Эгмонта, как он сам выражается, раньше был вакуум идей, а мсье Богарт, как известно, мыл ноги не толстому Тумбе и безрукому старику, но от этого не легче. Как же все это ужасно!
Она перевела дух и сжала виски руками.
— Он разрушил наш карточный домик, и нам теперь негде прятаться. Хочется быть справедливой к себе. Ты же сама так страдала от лжи? Ну вот видишь! Нам надо сделать над собой усилие — подняться и идти вперед или пойти на сделку со своей совестью.
«Время придет, и я пойду за ними», — вспоминает старая дама. Оно пришло, и ей вдруг стало страшно.
— Идти… Но куда же, Адриенна?
— Я не знаю. Но надо, мама.
В тот вечер, придя домой, художник сел за работу. Тщательно отделывая рисунок для фирмы, торгующей консервированными фруктами, ван Эгмонт зорко всматривался в стоящие перед ним банку и стеклянную вазочку с компотом, перенося на бумагу свежий блеск влажных ломтиков абрикосов и угрюмо бормотал: «Duivels! Duivels!»
«Вот и рухнула дружба. Осталась у меня только Мадлен Раванье, моя грешная фея… Моральная чистота ее не интересует, и она хорошо знает путь по зловонным ходам парижских джунглей. Пусть она и ведет меня. Борьбу нужно продолжать… Пусть!» — упрямо повторял себе худой и одинокий человек, но в душе у него было отчаяние…
Читать дальше