Подобные эпизоды, хотя и вызывали у В. Д. Зёрнова чувство некоторой обиды, позже расценивались им не иначе, как большая и серьёзная школа исследовательского мастерства. В одном из писем к своей будущей жене Е. В. Власовой, он признавался: «Мне самому приходилось при начале самостоятельной работы в лаборатории испытывать ощущение, что почва уходит из-под ног, а помощи от моего профессора не всегда можно было получить – он сам занят, да и находит, что такие моменты имеют хорошее воспитательное значение. Кажется, это верно. По крайней мере, когда сам выпутаешься из затруднения, чувствуешь большое нравственное удовлетворение» {13}.
Под руководством П. Н. Лебедева Владимир Дмитриевич подготовил и в 1902 году представил в Государственную испытательную комиссию два научных сочинения: «Тепловая диссоциация» и «Определение декремента затухания акустических резонаторов». В том же году он окончил университет с дипломом первой степени и по рекомендации своего учителя был оставлен при кафедре физики Московского университета «для приготовления к профессорскому званию» {14}.
Работая одновременно и в физической лаборатории университета, и преподавателем физики в частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой, В. Д. Зёрнов в 1904 году добился первой крупной удачи в науке. Его работа «Сравнение методов измерения звуковых колебаний в резонаторе», представленная в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, была высоко оценена и удостоена премии имени В. П. Мошнина. Как отмечалось в отзыве, к несомненным достоинствам работы «надо отнести не только предложенный им [В. Д. Зёрновым. – В. С.] остроумный и наглядный способ измерения воздушных колебаний, но и целый ряд сделанных им целесообразных изменений в конструкциях приборов…». Комиссия по присуждению премии единодушно заключила, что Зёрнов «обнаружил большие знания и остроумие и продвинул вперёд весьма важный вопрос…» {15}.
Двумя годами позже выходит и первый печатный труд его на немецком языке: «Über absolute Messungen der Schallintensität» («Сравнение методов измерения абсолютной силы звука»), напечатанный в «Annalen der Physik» – немецком научном издании по физике. На одном из первых корректурных оттисков этой работы стоит сделанная рукой П. Н. Лебедева надпись-напутствие: «Поздравляю Вас с первым, самым важным шагом начинающего учёного. До сих пор Вы только брали – теперь сами даёте. Помните добрый совет: работайте много, сколько можете, но печатайте только тогда, когда вполне разобрались в вопросе, и излагайте только то, что важно узнать читателю-специалисту по данному вопросу. Чем короче и сжатее статья, тем больше читателей, тем больше проку» {16}.
Несмотря на молодость, уже в начале своей научной карьеры Зёрнов сумел заявить о себе крупными и оригинальными исследованиями, сразу же обратив внимание ведущих учёных физиков как в России, так и за её пределами {17}.
И когда в 1937 году решался вопрос о присвоении ему учёной степени доктора физико-математических наук без защиты диссертации, член-корреспондент АН СССР Н. Н. Андреев особенно выделял работы, выполненные Зёрновым именно в период с 1905 по 1909 годы. «Для правильной оценки этой группы работ В. Д. Зёрнова, – подчеркивалось в его отзыве, – следует иметь в виду, что до них сколько-нибудь надёжных способов измерения силы звука не существовало […]. Эти работы В. Д. Зёрнова стали классическими. Нельзя себе представить курса акустики, в котором не упоминалось бы об этих работах» {18}.
Стремление учёного как можно глубже и всестороннее разобраться в физике звука вызывалось двумя главными причинами: приверженностью науке и преклонением перед искусством: «Эта область, – вспоминал профессор А. К. Тимирязев, – была особенно ему по душе: она соединила в одно стройное целое его увлечение физикой с его стремлением к искусству – к музыке. Он был не только физиком, но и художником, большим знатоком музыки и прекрасным исполнителем» {19}.
Наука и музыка – вот те два божества, на которых основывалось мировоззрение учёного, которые скрашивали его жизнь, помогая с честью выдержать любые испытания. Его мастерству игры на скрипке могли бы позавидовать многие профессиональные музыканты. И сам Владимир Дмитриевич, ученик таких прославленных музыкантов, как Карл Антонович Кламрот и Иван Войцехович Гржимали, мог бы стать профессиональным артистом. Судьба же распорядилась по-своему. Артистом он не стал, но, по его собственному признанию, «моя причастность к искусству играла во всю мою жизнь и сейчас играет большую роль» {20}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
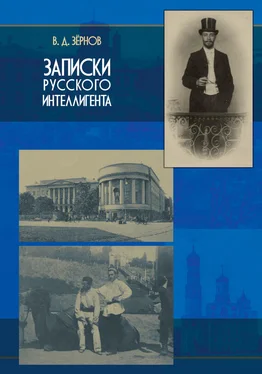

![Игорь Шафаревич - Записки русского экстремиста [Политический бестселлер]](/books/62957/igor-shafarevich-zapiski-russkogo-ekstremista-poli-thumb.webp)
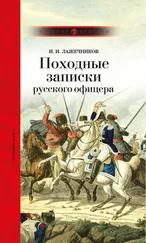

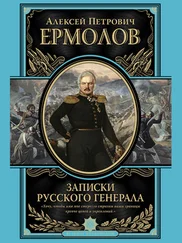

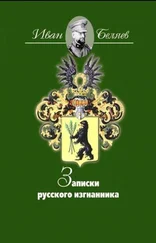



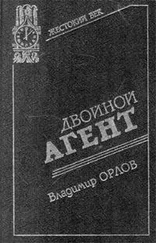
![Юрий Фадеев - Записки «русского азиата». Русские в Туркестане и в постсоветской России [Издание второе, измененное, добавленное]](/books/399552/yurij-fadeev-zapiski-russkogo-aziata-russkie-v-t-thumb.webp)