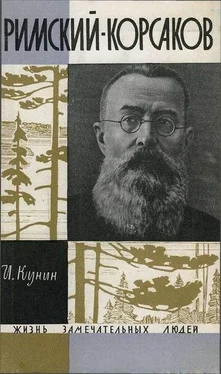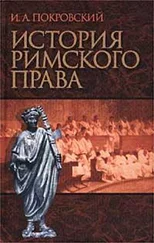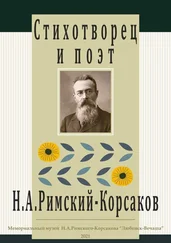В новую полосу существования вступает искусство. Густая дымка застилает от подавляющего большинства художников истинный смысл происходящего. Но трепещут чуткие мембраны восприятия. Тысячами способов пытается искусство отразить, охватить, осмыслить новый, еще далекий от завершения исторический опыт человечества.
Впечатлительному наблюдателю всего заметнее разрушение привычной картины мира. В музыке, литературе, живописи это сказывается стремительным ростом дисгармонических начал. Широкий доступ в искусство получают крайние, предельные состояния сознания: экстаз, упоение, кошмар. Для их воплощения требуются столь же исключительные, «крайние» средства. Падают былые правила и запреты. Открывается дорога безграничному субъективизму. Чем дальше, тем больше отдельные приемы, отдельные элементы художественной формы получают блистательное, но гипертрофированное развитие, убийственное для логики целого. Слабеет представление об устойчивости явлений. Художника привлекают зыбкие, калейдоскопически сменяющие друг друга впечатления, ощущения, настроения. Отразить их может только искусство повышенной чувствительности. Восприятие крайне истончается. Подробность становится богом. И в противовес этой хрупкости и разрозненности ювелирно выточенных деталей обнаруживается мощная тяга к возрождению конструктивно прочных, угловатых, сурово-архаических форм.
История искусства, кажется, не знала таких взаимоисключающих стремлений. Рядом с порывом к микроскопически точному воспроизведению реальной жизни во всей ее изменчивости повышается интерес к наиболее общим проблемам бытия: любви, смерти, добру и злу. В особенности идея красоты занимает умы, разрастаясь в нечто поистине универсальное, способное, как кажется ее апостолам, вытеснить и заместить все остальные идеалы. Трактуются эти проблемы чаще всего с расплывчато-идеалистических позиций, облекаются в поэтическую ткань неясных символов. Другое противоречие: никогда еще так не уважали классику и никогда не были от нее так далеки. Исчезли общественные предпосылки самых основ классического соответствия формы содержанию. Слабеет, нарушается связь художника с народом. И как результат вырисовывается еще одно противоречие, самое страшное. Художник, мечтающий создать новую красоту и открыть на нее глаза людям, оказывается в реальных условиях общества начала XX века всего лишь обойщиком и декоратором самодовольного купца. Полеты над мистическими безднами финансируются и приходуются расчетливым предпринимателем. Поэт или композитор, возжелавшие повести за собой страждущее человечество, преобразить и одухотворить целый мир, уже в силу одной только изысканности и крайней утонченности своей речи остаются не услышанными теми, к кому речь обращена, и вынуждены довольствоваться хвалами тесного кружка знатоков и покровителей. Тени чередуются со светом. Пестрота общей картины слепит. Достижения имеют своей неизбежной оборотной стороной утраты и потери. Бесспорно, это искусство упадка, но упадка относительного и не всестороннего. Это время появления плеяды блестящих талантов, расширивших круг эстетических понятий и средств искусства, время интенсивного подъема художественной деятельности, но подъема, купленного дорогой ценой.
«Римский-Корсаков чрезвычайно волновался и интересовался всеми новыми течениями, которые возникали в России и на Западе», — вспоминал один из учеников. Его письма начальных лет XX века, беседы, сохранившиеся в памяти студентов консерватории или попавшие в записи Ястребцева, дышат тревогой, гневом, страстным интересом. «Декадентство», — лаконично пишет он в плане «Летописи», приурочивая запись к событиям зимы 1900/01 года. Но ни тут, ни в ином месте воспоминаний тема не раскрывается. «О Скрябине поговорю когда-нибудь потом», — читаем в главе XXV «Летописи». Это «когда-нибудь» не наступает никогда. Художник выжидает момента, когда мысли и впечатления отстоятся и он сможет сказать о Скрябине свое слово. Годы бегут, сложное явление повертывается к нему все новыми гранями, а ясного ответа не возникает. В концертах, на музыкальных вечерах у себя дома, наедине с роялем Римский-Корсаков с настойчивым, острым интересом вслушивается в сочинения молодых, стараясь не пропустить ничего нового, повторно возвращаясь к уже знакомому.
От нового искусства его отталкивает демонстративность, неуравновешенность, болезненность. Он сожалеет, что в музыке Скрябина нет счастья, нет беззаботности и веселья. «Всего каких-то полтора на- строения, да и то оно больное, мятущееся», — говорит Николай Андреевич Ястребцеву. Но в канун революции, когда народные массы не хотят жить по-старому, а господствующие классы уже не могут, в самой жизни не слишком много беззаботности и веселья. Россия разбужена порывами близкого революционного вихря и встрепенулась каждым живым листком. Еще не написана «Поэма огня» — «Прометей», но страстным прометеевским порывом дышат скрябинские сочинения этих лет. «Великий талант», — коротко отмечает Корсаков, говоря о Скрябине в 1902 году. «Безупречен как гармонист, нет чепухи, не то что у Регера или же Штрауса…» Но «нет ни одной нотки спроста». Это конец 1905 года. В те же дни, на репетиции перед исполнением Третьей симфонии Скрябина он ворчит и сердится на ненужное увеличение состава оркестра: «Зачем восемь валторн?!. Во всем этом самомнение!» — «А как Вы оценивает самую музыку?» — спрашивают у него. «Что тут говорить: музыка — на грани гениального!» Впечатления не хотят приводиться к единому знаменателю. «Поэма экстаза»? «Пожалуй, оно даже и сильно, но все же это какой-то музыкальный квадратный корень из минус единицы».
Читать дальше