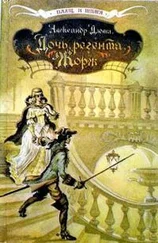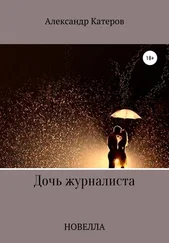В этом послании соотечественникам выражена боль и драма глубоко русского человека, сердечными узами скрепленного с отчизной, своим народом и вынужденного суровыми историческими обстоятельствами провести десятилетия в изгнании, в чужом мире, который, однако, высоко оценил ее миссию полпреда национальной словесности.
Александра Львовна Толстая скончалась 26 сентября 1979 года.
В соболезновании президента США Дж. Картера ей воздано должное: «Розалин и я были опечалены, узнав о смерти Александры Толстой, — говорится там. — С ее кончиной оборвалась одна из последних живых нитей, связывавших нас с великим веком русской культуры. Нас может утешать лишь то, что она оставила после себя. Я думаю не только о ее усилиях представить нам литературное наследие ее отца, но и о том вечном памятнике, который она воздвигла сама себе, создав примерно сорок лет назад «Толстовский фонд».
Те тысячи, которых она облагодетельствовала своей помощью, когда они свободными людьми начинали новую жизнь в этой стране, всегда будут помнить Александру Толстую» [13] Новый журнал. 1979. № 237. С. 194.
.
«Памятником» служит и оставленное ею литературное наследие.
У Софьи Андреевны как–то в сердцах вырвалось: «Природа отдыхает на моих детях», что было неправдой. Совсем наоборот, природа щедро одарила их музыкальными, художественными и, конечно, незаурядными литературными способностями. Не явилась исключением и младшая дочь. Она обладала сильным голосом, свободно владела пером. За границу ехала она с «грандиозными планами». Там чуть ли не с первого дня работала активно, выступая с лекциями о Толстом, знакомя слушателей с его уникальной личностью, с перипетиями его биографии, с его учением, обстоятельствами «ухода и смерти». Помогали привезенные из дома книги, рукописи, записные книжки. К «грандиозным планам», реализованным Александрой Львовной за рубежом, в первую очередь относится монография «Отец. Жизнь Толстого», основу которой составили документы и материалы. «Мне пришлось пользоваться не только моими личными воспоминаниями, — предупреждал автор читателя, — но и различными печатными источниками, книгами о Толстом, его биографиями, напечатанными дневниками и письмами» [14] Толстая А. Л. Отец. С. 5
. Здесь сплавлены чужие тексты, авторские воспоминания, услышанное от отца, родных, друзей? и все подчинено одной мысли: «Я чувствовала, что была обязана написать об отце все, что я знаю и как я понимаю его, так как всем, что во мне есть хорошего, я обязана только ему… Мне хотелось поделиться с вами, читателями, моей любовью к этому необыкновенному, милому, чуткому, веселому и привлекательному, великому в простоте своей человеку, подвести его ближе к вам» [15] Толстая А. Л. Указ, соч. С. 5.
. Это произведение, в котором рассказано о 82 годах земного бытия писателя, многоголосое: он сам говорит о себе, говорят о нем и близкие, и члены семьи разных поколений, и биографы, и мемуаристы. Хотя Александра Львовна подчеркивала, что «постарается… дать беспристрастное описание действующих лиц, их жизни, психологии без собственной оценки» и что «личность автора, его суждения должны в целом отсутствовать», все же ее собственный беспредельно любящий того, кому книга посвящена, голос слышен. Быть может, благодаря этому, да и всему хоровому началу книги, в ней вырисовывается образ многомерный, в высшей степени человечного человека, необыкновенного, беспощадного к себе, своему несовершенству, отзывчивого к людской боли, чужому горю, а по сути очень «одинокого».
Такое документальное повествование, содержательное и увлекательное, позволило зарубежному читателю впервые столь полно и обстоятельно узнать историю жизни русского гения, рождения его великих книг, его гуманных дел, его мужественных выступлений против правительства, метаний его духа, отношений с членами семьи, с современниками. Книга имела большой успех, была переведена на датский, испанский, финский, французский, шведский и японский языки. Желание автора «подвести» Льва Толстого к народам Европы и Америки, приблизить их к нему осуществилось.
В годы, последовавшие за выходом в свет этого капитального труда, Александра Львовна изредка помещала на страницах эмигрантских журналов эссе, как бы дополняющие его, например «Отец всегда все понимал» [16] Возрождение. 1960. № 107.
, «О радости смерти» [17] Новый журнал. 1975. № 121.
и т. д., вносящие новые штрихи в образ отца.
Читать дальше
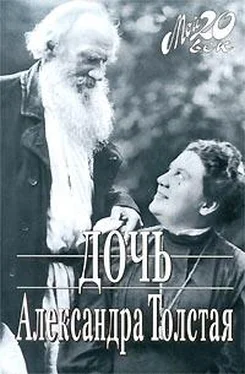








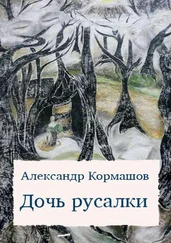
![Александра Гринберг - Дочь шторма, невеста огня [≈ Жнец крови и пепла] [litres]](/books/388461/aleksandra-grinberg-doch-shtorma-nevesta-ognya-zh-thumb.webp)