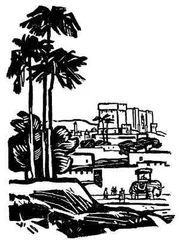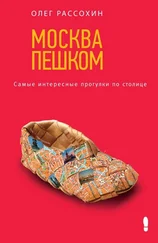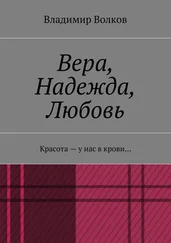…У нас говорят: «…надо уметь одеться к лицу, что кому пристало». И одеваются к лицу. В костюмы своего изобретения. Например, зеленый плащ и белая фуражка без козырька или узенький фрак, до бесконечности широкие шаровары и соломенная шляпа.
…Вы увидите часто купца в костюме времен Грозного и рядом с ним супругу его, одетую по последней парижской картинке.
…В четыре часа (пополудни. – О.В. ) по всему Замоскворечью слышен ропот самоваров; Замоскворечье просыпается и потягивается.
…Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубахе для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях: это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам.
…Общества совершенно нет, в театр не ездят. Разве только на Святках да на Масленице… смотреть ездят: Русалку, Аскольдову могилу… Вот что еще замечательно, что водевиль, дающийся после пьесы, считается продолжением ее.
…Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье спит. Извозчика и не ищите».
Прожив в Замоскворечье значительную часть своей жизни, Островский знал его изнутри, ощущал суть сложившихся в нем нравов и понятий. Он родился в 1823 году «в церковном доме Покровской церкви, что в Голиках», находившемся в районе нынешних Монетных переулков. Спустя семнадцать лет, в 1840 году, отец будущего драматурга приобрел владение в Николоворобьинском переулке, названном так по церкви Николы на Воробьине, выстроенной стрельцами. Никаких гимназий в годы юности Островского в Замоскворечье, само собой, не было, и он учился в Первой московской гимназии, открытой еще при Екатерине. Она помещалась на Волхонке, улице, на которой впоследствии поселился Островский и прожил девять лет, вплоть до своей смерти 2 июня 1886 года.
Аполлон Григорьев писал в сороковых годах, что, где Островский, там и кружок. И действительно, кто только не перебывал у него в доме по Николоворобьинскому переулку! Писатели самых разных и подчас враждовавших направлений, музыканты, художники… Черта знаменательная – всех тянуло к Островскому. Его постоянными гостями были Достоевский и Толстой, Тургенев и Григорович, Писемский, Плещеев, Салтыков-Щедрин, Майков, Николай Рубинштейн и Чайковский, не говоря о соседях, с которыми он общался почти повседневно – Аполлоне Григорьеве и Фете, живших на Полянке. Что ж, если прибавить Толстого, поселившегося в 1857 году на Пятницкой улице, окажется, что Замоскворечье в середине прошлого века сделалось одним из средоточий литературной жизни Москвы, пришедшем на смену затухающим салонам аристократических улиц города.
Но разумеется, не присутствием и деятельностью видных и знаменитых писателей определялись лицо и уклад Замоскворечья, вылившиеся в устойчивые формы, которых перемены века касались лишь поверхностно, задевая внешность, а не существо. Приведу несколько строк из рассказа молодого Белинского о его первых московских впечатлениях. В них, разумеется, растерянность приезжего, привыкшего к патриархальным нравам своего пензенского захолустья, однако отдельные черты старой столицы, не поторопившейся раскрыть объятия перед оробевшим провинциалом, отмечены будущим критиком верно и интересны: «Везде разъединенность, особность; каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа. Это еще заметнее в Замоскворечье, этой чисто купеческой и мещанской части Москвы: там окна завешены занавесками, ворота – на запор, при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво, или, лучше сказать, сонно; дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду».
Это описание интересно сопоставить с тем, что говорилось о Замоскворечье спустя почти семьдесят лет в «Путеводителе по Москве» за 1913 год:
«Длинные деревянные заборы, бесконечные сады, ворота на запоре, за воротами псы, – деревянные дома на каменных фундаментах. Целый день, особенно в будни, ни проезжего, ни прохожего. Ворота заперты, окна закрыты, занавесы опущены…
…За воротами тихо и однообразно. В доме чистота в нежилых комнатах, где принимают гостей, и духота, неряшливость в жилых. Мебель тяжелая, красного дерева; в углу киот; на стенах часы с боем; в окошке клетка с канарейкой».
И все же, если предрассудки оставались старыми, дома строили новые… После реформы 1861 года вместе с остальной Москвой меняется и внешний вид Замоскворечья, и жизненный уклад его обитателей. Сады вырубаются, деревянные домики уступают место богатым особнякам либо многоэтажным доходным домам. Исчезают понемногу и дореформенные типы Островского: картуз и старомодный цилиндр сменились котелками, долгополый сюртук – смокингом и визиткой, вместо сапогов бутылками появились американские щиблеты, вместо окладистых бород – бритые лица, или по-европейски подстриженные эспаньолки, или буланже. Ушли в прошлое и знаменитые купеческие выезды. Замоскворечье стало обзаводиться учебными заведениями, однако на правом берегу реки была основана лишь шестая по счету гимназия в Москве. Появилось и высшее учебное заведение – Коммерческий институт (впоследствии Институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова), на который купцы не жалели денег, приглашая выдающихся профессоров и преподавателей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
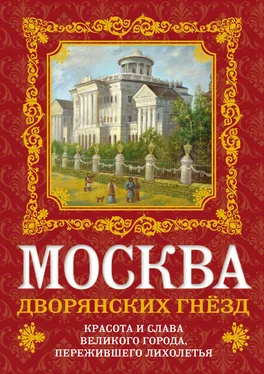
![Олег Волков - Цена власти [СИ]](/books/25779/oleg-volkov-cena-vlasti-si-thumb.webp)