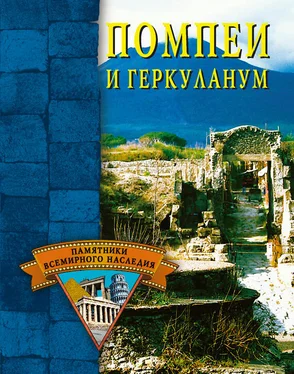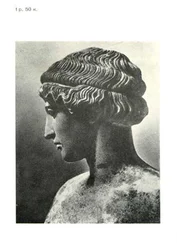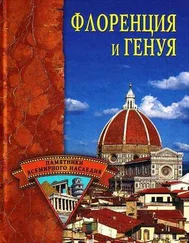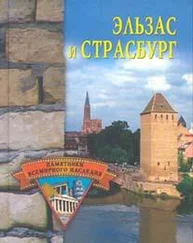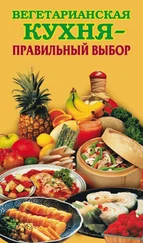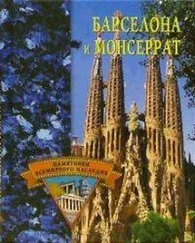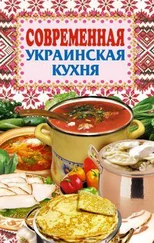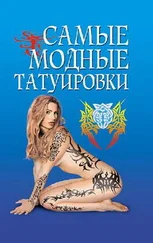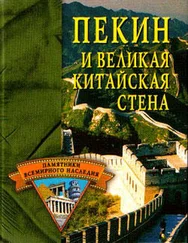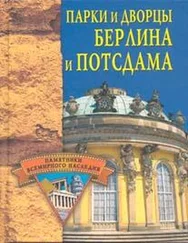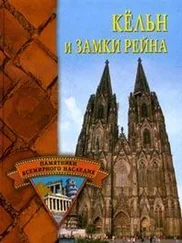Гробница с мраморным фронтоном и полукруглой нишей была построена для Везалия Грата, прожившего, судя по надписи, всего 12 лет. Столбик с квадратной нишей помечал могилу Сальвия, умершего в 5-летнем возрасте. Позади этих довольно скромных памятников стоял величественный монумент с трогательной надписью: «Сервилию, другу души моей».
Помпеяне долго следовали правилу никогда не расставаться с близкими, поэтому, как все италийцы, хоронили или сжигали усопших в своих дворах. В старину мертвые не мешали живым, а живые не боялись от мертвых. В V веке до н. э, после утверждения Законов двенадцати таблиц власти запретили любое погребение, в том числе и кремацию, не только в жилищах, но и вообще на территории города. Исключение составляли похороны особо важных лиц, например Публиколы и Фабриция. Однако в любом случае обряд был символическим, поскольку выставленные на форуме тела не сожгли дотла, а лишь приблизили к одеждам горящий факел.
Церемония погребения начиналась незадолго до восхода солнца и проходила до позднего вечера согласно установленному порядку. Утверждая правила проведения траурных обрядов, сенат позаботился о том, чтобы скорбный ритуал не превращался в зрелище для праздных зевак. Медленная, торжественная, иногда лишь внешне печальная процессия не сопровождалась открытым выражением скорби. Если гречанки волей или по принуждению кричали, заливались слезами, раздирали лица ногтями, то у римлян горе не выходило за границы приличия.
Усопшего поминали в специальном открытом помещении, устраивая трапезы на 9-й и 30-й день после смерти. По окончании последних поминок разрешалось снять траурные одежды. Возведенный в старых традициях триклиний у могилы Сатурнина представлял собой огражденную площадку с низкой дверью, столом и каменными ложами. Гладко оштукатуренные стены были украшены фресками с изображением птиц, оленей, деревьев.
Римляне называли поминальную трапезу латинским словом silicernium. В глубокой древности она ограничивалась поеданием того, что осталось от жертвенных даров. Приношения богам совершали на невысоком постаменте у обеденного стола. Позже на пьедестал устанавливали изображение покойного, дополняя траурную композицию цветами и зеленью. Позже в память усопшего давали роскошные пиры с неоднократной сменой блюд и обильным возлиянием. В сочинении В. Классовского описан один из таких обедов, когда «вокруг пышно накрытого стола располагались избранные из приглашенных на похороны. Так как поминальщики, несмотря на душевное прискорбие, усердно наполняли и осушали кубки, то им случалось забывать цель сходбища, и тогда оплакивание милого сердцу человека переходило в оргию. За столом в триклинии оставляли одно место незанятым, для умершего, вследствие веры в то, что он незримо присутствует здесь».
Нарушение погребального церемониала грозило покойнику большими неприятностями: не принятая в царство мертвых, его душа была обречена вечно скитаться по берегам Стикса. Оттого каждому римлянину вменялось в обязанность хоронить всякое мертвое тело, даже если оно, порядком истлевшее, валялось у дороги. Впрочем, для исполнения долга считалось достаточным бросить на мертвеца горсть земли, дополнив сие действие недолгой молитвой. Те, кто не желал себе подобных похорон, заботились о гробнице при жизни, сооружая по возможности обширный и богато украшенный склеп для себя и сородичей. Стремясь к роскоши при жизни, римляне не желали упрощать свое бытие и в загробном мире. Тщеславная знать ловко обходила закон, по которому гробнице полагалось быть скромной. Дело в том, что правила не распространялись на величину и декор установленного над могилой монумента, а слово «гробница» буквально означало урну с прахом.
В некрополе Помпей имелся своеобразный памятник траурного зодчества под названием «кенотаф» (от греч. kenotaphion – «пустая могила»). Гробница без тела умершего была возведена в честь августала Кая Кальвенция Квета. Согласно надписи, она предназначалась полководцу, который в земной жизни восседал на почетной скамье bisellium. Могилу опоясывала глухая, гладко оштукатуренная стена. Внутри находился пьедестал с тремя уступами, служивший основанием для памятника. Величественный монумент Квету венчали мраморные валики в виде сплетения пальмовых листьев. В барельефах и на боковых поверхностях были представлены победные венки, а также изображения Эдипа и женщины в одеждах элевзинских мистерий (празднества в честь Деметры), зажигающей факелом погребальный костер.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу