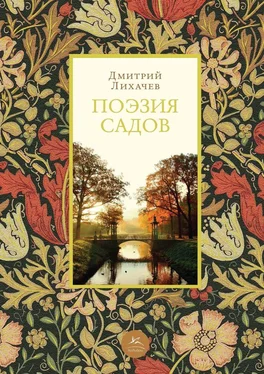* * *
Наконец, следует сказать о некоторых специальных трудностях, связанных с основным назначением книги: увидеть в садовом искусстве проявление великих стилей. Некоторые из стилей трудноопределимы в садовом искусстве. Так, например, очень трудно отделить в садах барокко от маньеризма. Понятие маньеризма вошло в искусствоведческую литературу очень давно: едва ли не первым, введшим это понятие, был Г. Вёльфлин [65] Wölflin Н. Renaissance und Barock. München, 1888.
. Спустя 23 года его стали употреблять К. Буссе [66] Busse К. Н. Manierismus und Barockstil. Leipzig, 1911.
, Э. Панофски [67] Panofsky E. Idea. Leipzig; Berlin, 1924. См. также: Pevsner N. Gegenreformation und Manierismus // Repertorium für Kunstwissenschaft. 1925. S. 243 ff. Подробнее о маньеризме см.: Briganti Giuliano. Der Italienische Manierismus. Dresden, 1961.
и мн. др. Но понятие маньеризма и его отличия от барокко остались тем не менее неясными и до сих пор. Выделить маньеризм в садовом искусстве не удается. Неясными остаются в садовом искусстве и границы между рококо, предромантизмом, сентиментализмом. Такими же неясными они остаются, впрочем, и во многих других искусствах.
Еще раз осмеливаюсь напомнить читателю: в своей книге я не ставил себе целью подробный разбор отдельных произведений садово-паркового искусства. Для последней задачи есть много прекрасных книг по отдельным садам и паркам. Моя задача – побудить читателя «читать» произведения садово-паркового искусства.
Не так ли с неба время льется,
Кипит стремление страстей,
Честь блещет, слава раздается,
Мелькает счастье наших дней,
Которых красоту и радость
Мрачат печали, скорби, старость?
Г. Р. Державин. «Водопад»

Сады Древней Руси и западного Средневековья
Распространено представление, что в Древней Руси существовали только хозяйственные, утилитарные сады [68]. Такое представление укреплялось мнением, вернее, предрассудком, что плодовые деревья и кусты не могли служить украшением, и наличие их в старых садах представлялось указанием на то, что эти сады были преимущественно хозяйственными.
Между тем еще в начале XIX в. память о великолепных московских садах сохранилась в полной мере. Переводя поэму Делиля «Сады», А. Воейков поместил от себя в описание лучших садов мира специальный раздел о садах Москвы [69]:
Старинные сады, монархов славных их
Останки славные, почтенны ввек для них,
Вельмож, царей, цариц святятся именами,
И вкуса древнего им служат образцами.
Увеселительный Коломенский дворец,
Где обитал Петра Великого отец
И где Великий сей младенец в свет родился,
И в Вифлеем чертог царя преобразился;
На берегу Москвы обширный сад, густой,
Лип, вишен, яблонь лес, где часто в летний зной,
Любя прохладу вод и тени древ густых,
Честолюбивая покоилась София [70].
Впрочем, уже во второй половине XIX в. существовало представление, что в Древней Руси сады имели только утилитарное назначение и садового искусства как такового не было. Это представление не могли рассеять даже обстоятельные работы И. Забелина о русских садах XVII в., поскольку И. Забелин только публиковал некоторые материалы без попыток обобщить их искусствоведчески.
Прежде всего следует обратить внимание на существовавшее градостроительное законодательство в Древней Руси, воспринятое от Византии. В этом отношении очень важный материал опубликован Г. В. Алферовой в исследовании «Кормчая книга как ценнейший источник древнерусского градостроительного законодательства. Ее влияние на художественный облик и планировку русских городов» [71].
Я не буду вдаваться сейчас во все детали этого интереснейшего законодательства. Важно отметить только, что древнерусским строительным законодательством предусматривались вослед византийскому разрывы между зданиями, достаточные для устройства садов, и, самое главное, запрещалось кому бы то ни было загораживать вид на окружающую природу. В древнерусских иконах XV–XVII вв. изображения зданий очень часто даются в обрамлении деревьев, деревья выступают из-за кровель строения или находятся рядом с ним. Этим одним уже подчеркивается связь архитектуры и садов. Нужно поэтому думать, что сады в древнерусских городах имели не только утилитарную, но и эстетическую функцию. Что касается до вида на окружающую город природу, который не следовало по закону загораживать, то это правило, конечно, имело главным образом эстетическую функцию и было в Древней Руси очень важным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу