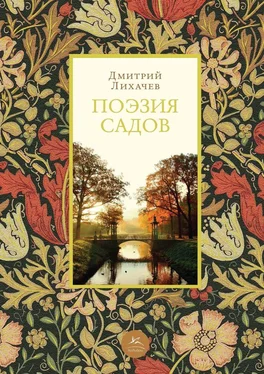6. Наконец – и это, пожалуй, самое важное, – сад и парк теснейшим образом связаны не только с бытовой жизнью, протекающей в них, но со всем строем создавшего их общества. Дело не только в изменяющемся назначении сада и парка, но и в том, что многие из сторон садово-паркового искусства прошлого имели смысл только при крепостном строе, в окружении особого дворцового быта, при наличии богатых владельцев, огромного штата садовников, рабочих, слуг и т. д. [537] – при определенном общественном укладе, в быту императорского двора и при использовании сада сравнительно небольшой императорской или помещичьей семьей.
Можно с уверенностью сказать, что восстановить в первоначальном виде сады XVI–XVIII вв. так же невозможно, как и музеефицировать многие социальные институты, с потребностями и вкусами которых они были связаны. Нет уже ни монархов, ни помещиков с их садовыми развлечениями, ни сотен садовников и садовых рабочих. Многие растения, считавшиеся в свое время экзотическими, поражавшие воображение, давно перестали быть экзотическими и удивительными. Изменились и представления об «идеальном мире» – Эдеме, устарела и «философия природы», в свете которой в свое время воспринимались сады. Изменилось и окружение садов, что также чрезвычайно важно. Сады, бывшие загородными, часто оказывались внутри городской застройки. Сад как культурный феномен особенно тесно связан со своей эпохой.
Невозможно заняться восстановлением оранжерей, в которых росли тысячи редких пород растений, как невозможно было бы и бессмысленно содержать при садах королей и их двор, владельцев замков и их нарядных посетителей [538]. Поэтому задача реставрации в садах не может сводиться к восстановлению садов периода их «расцвета». Было бы наивно предлагать тратить огромные деньги и ограничивать число посетителей садов немногим числом, которое позволяло бы пользоваться узкими дорожками, огибными аллеями, беседками, эрмитажами, гротами, разрешать срывать плоды и рвать цветы, мять на дорожках душистую траву и т. п., как это было обязательным для садового быта периода «просвещенного абсолютизма» или господства знати. Следовательно, задача садоводов должна заключаться сейчас в продлении жизни тех остатков садово-паркового устройства, которые возможно поддержать.

Летний сад. Аллея со стороны Лебяжьего канала. Фото К. К. Буллы. 1913
Реставраторы садов так или иначе вынуждены идти на компромиссы, сохраняя их в новых условиях, с новыми средствами и для новых общественных целей.

Летний сад. Скульптура «Амур и Психея». Фото К. К. Буллы. 1913
Естественно, что главную роль в этом сохранении садов должна играть документальность. В садах должны оставаться все «документальные памятники» (старые деревья, садовые павильоны, дорожки, пруды, фонтаны и пр.), которые свидетельствовали бы не только о «периодах расцвета», но и о всей культурно-значимой истории сада. Эпохи сада не могут быть реально показаны посетителю, но они могут быть им самим представлены себе. Поэтому очень важно иметь при садах в специальных павильонах музейного назначения экспозиции, в которых были бы собраны материалы по истории сада: гравюры, картины, археологически обнаруженные материалы, костюмы различных эпох, планы, чертежи, проекты и т. д. и т. п.
Следует подумать и о том, что в садах мраморные статуи в современных условиях портятся [539]. Ценнейшие статуи XVII–XVIII вв. Летнего сада в Петербурге должны быть постепенно заменены точными копиями, сами же подлинники следует сохранять в музее Летнего сада, который вполне может быть создан в самом саду – допустим, в Кофейном домике. Садовые музеи – вот самый действенный и самый интеллигентный способ сохранить память о былой красоте ценнейших наших садов и парков [540].
Вместо реставрации следует предпочитать в наших садах консервацию всего документально ценного, лечить деревья и подсаживать к ним молодые из специальных питомников. Следует, как мне кажется, помнить, что деревья, особенно молодые, «сами себя лечат». Развитие дупел в липах – естественный процесс, наступающий у лип в довольно раннем возрасте – примерно около пятидесяти лет. Мнимая угроза для гуляющих от старых деревьев явно придумана для оправдания вырубок в садах и парках. Напомню, что старые деревья падают главным образом во время непогоды, когда гуляющих почти не бывает. Термины «деревья угрозы» или «деревья потенциальной угрозы» (употребляющийся этот термин, помимо всего прочего, тавтологичен – угроза сама по себе «потенциальна») явно несостоятельны. Так можно было бы с бóльшим основанием объявлять предметами «угрозы» карнизы домов, балконы, фонарные столбы и т. д. – тем более что несчастных случаев от них гораздо больше. Что же касается до «критического» возраста деревьев, то вот справка из «Курса дендрологии» С. С. Пятницкого: «Наблюдались экземпляры дуба, у которых, путем подсчета годичных колец, был установлен возраст около 1000–1500 лет. Липа доживает до 700–800 лет, образуя ствол с диаметром до 4–5 метров, бук – до 500–600 лет. Из хвойных наиболее долговечен тис, доживающий до 2000–3000 лет. Сосна доживает до 400–600 лет, ель – до 300–400 лет и т. д.» [541]Отмечу также, что маслина на Адриатике в районе Будвы имеет в отдельных случаях возраст до 2000 лет. Красота старых деревьев при этом ни с чем не сравнима. Об этом свидетельствуют и собиравшиеся в Пушкинском заповеднике его директором С. С. Гейченко фотографии деревьев, живущих в Михайловских рощах с пушкинских времен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу