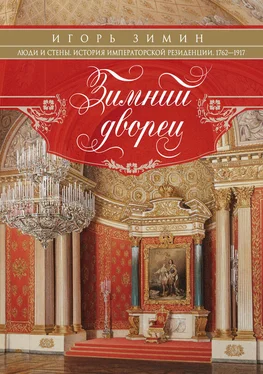Горшечные своды новыми были только для Зимнего дворца, поскольку эту технологию использовали для возведения сводов еще в Древнем Риме. При этом Комиссия отклонила настойчивые предложения французов прислать мастеров и получить заказ на глиняные горшки для возведения сводов. Поставщиков материалов отбирали в России на конкурсной основе. При этом немаловажным аргументом служила стоимость изделий с доставкой на место строительства.
Гончарные горшки представляли собой глухие пустотелые конуса высотой 22,8 см, в диаметре внизу 8,9 см, вверху 12,7 см. В донцах сверху и снизу проделывались отверстия. Сами горшки имели шероховатые стенки, что позволяло прочно связывать их раствором. Об объемах работ свидетельствует то, что к маю 1838 г. изготовили до пяти миллионов таких горшков. Такая технология, во-первых, облегчала вес сводов и внутренних перегородок, а во-вторых, позволяла быстро просушивать стены и начинать их немедленную отделку.
Николай I лично наблюдал за ходом восстановительных работ, задавая невероятно высокие темпы и вникая во все детали строительства. Все проектные чертежи просматривались и утверждались самим Николаем I, причем он не раз вмешивался в уже готовые проектные решения.
Прогревался дворец десятью печами, установленными в цокольном этаже, которые круглосуточно нагревались коксом. Использовались и огромные вентиляторы (всего 20 штук), часть из них разгоняла теплый воздух по дворцу, а другую часть приспособили для выкачивания сырого воздуха. Для максимально быстрой просушки «среднюю по дворцу» температуру поднимали до 36 градусов. Понятно, что под потолком она была на порядок выше. Рабочие трудились в тяжелейших условиях. Тем не менее все строительные и отделочные работы закончили за 15 месяцев, к весне 1839 г. В марте 1839 г. состоялось освящение Большой дворцовой церкви и всего возобновленного Зимнего дворца.
Говоря о восстановлении интерьеров дворца, следует иметь в виду, что на многие принимаемые решения оказывал давление такой мощнейший фактор, как время. Царь публично обозначил сроки ввода дворца в строй, поэтому архитекторам постоянно приходилось изыскивать решения, которые позволяли бы решать множество возникающих задач в кратчайшие сроки. Кроме этого, восстановление дворца обходилось в колоссальные суммы, поэтому в ходе работ использовались «бюджетные варианты»: вместо натурального мрамора использовался искусственный мрамор или алебастр, вместо бронзовых люстр подвешивали покрытые позолотой люстры, сделанные из папье-маше, золотили цинковые светильники.
С другой стороны, эти работы выполнялись так тщательно, что невозможно было определить, по какому материалу наносилась позолота – по резному дереву, по бронзе или по папье-маше. То есть непременным требованием для применения подобных удешевляющих и ускоряющих технологий являлось требование непременного сохранения достойного внешнего вида интерьеров, «по образцу прошлых лет».
Сырость дворца при ведении отделочных работ представляла очень серьезную проблему. Решая ее, прибегали к строительным методикам, вводимым буквально «с колес». В этом была доля риска, на который сознательно шли члены Комиссии, прекрасно понимая, что произойдет в случае неудачи. Упомянем в числе таких решений возведение пустотелых колонн, в которых циркулировал воздух, просушивая их. Или устройство в колоннах небольшого пространства между кирпичной основой и мраморной обшивкой.
Конечно, имелось в виду, что потом, по окончании строительства Зимнего дворца, постепенно, уже без спешки, произойдут необходимые замены. Но, как известно, «потом» бывает очень редко, и то, что делалось «по временной схеме», осталось навсегда. И существует по сей день. Хотя в 1840-х гг. цинковые светильники заменили на стандартные бронзовые. В апреле 1838 г. Николай I распорядился «во всех комнатах, где будут ковры, делать паркеты простые из дубового дерева» [318]. Со временем на парадном втором этаже дубовые паркеты заменили причудливыми наборными, штучными. На третьем же этаже во многих комнатах этот дубовый паркет так и остался.
Вместе с тем проектировщики и строители стремились выполнить работы с максимальным качеством. Ради этого они пытались изменить схему технологических решений, вполне оправдывавших себя. Например, в 1839 г. рассматривался проект по изготовлению и установке наружных рам из лиственницы. До этого имелась устоявшаяся производственная схема: внутренние рамы делали из сосны, а наружные – из дуба. Мотивировалась предполагавшаяся замена тем, что лиственница будет более устойчива к петербургскому климату. Отметим, лиственница тогда являлась «стратегическим материалом» и использовалась только для строительства кораблей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу