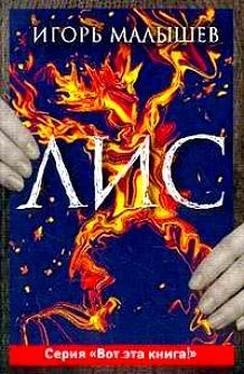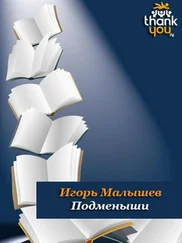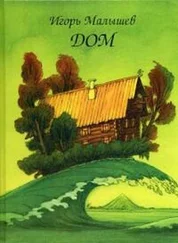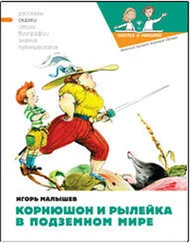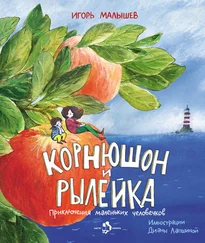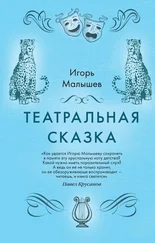А в русальную неделю на них как будто что нападало, они становились злы и веселы. С наступлением темноты они выходили из воды и бегали по лесам и полям. В это время Лис часто носился с ними рядом, то похрапывая, как конь, то фыркая собакой. Останавливался, глядел, высунув язык, им вслед, вставал на четвереньки и бежал снова, мокрый от росы и пьяный от гонки. Русалки, сделав круг, снова возвращались к пруду, скидывали рубашки и, белея тонкой кожей, с криками и смехом бросались в воду. Лис, отхлебывая горячим языком прямо из пруда, влетал за ними. Однажды они схватили его и, прижавшись холодными упругими телами, потащили под воду.
— Пойдем с нами, женишок. Женись на нас! Или мы не красивы? — прижимались еще ближе, брали за плечи, целовали в губы, шептали: — Пойдем, слышишь, — а сами шли все глубже и глубже.
Лис задурачился, закричал:
Ах, вы водявы, смерти на вас…
Заблажил, хватая ртом воду и захлебываясь. Стал царапать скользкие тела, сверкая хитрыми глазами, и вдруг впился в губы одной, прижался всем телом, обнял.
— Ах, — только и сказала та, оттолкнула его, за ней другие.
— Бес, недотыкомка!
Лис залился смехом, в брызгах вырвался на берег, упал на песок, загреб его пальцами и бросил в русалок.
— Водявы!
Русалки, погрустнев, вышли на берег, надели рубашки и, поправив венки, пошли водить хороводы по мокрой от тумана траве.
Лис запрыгал радостно, вбежал в середину круга, заверещал, забился.
Русалки затянули песню.
Ой, да ходит мой милый
Берегом, берегом.
Да не видит меня
В тереме, тереме.
Кто ж мне косу
Расплетет, расплетет?
Да венок мой
Разовьет, разовьет?
Лис бегал в кругу, брызгал на них росою, но они, не замечая его, продолжали петь.
Ой, свяжу все тропки
Лентою, лентою.
Привяжу узлом
К свому терему, терему.
Лис пытался перепеть, затягивал:
Ой, бесе, бесе,
Что ж ты не весел…
Потом умолкал, и, рванув кругом внутри хоровода, убегал в лес.
Церковь не всегда была пустой. Когда-то давно она была красивой и светлой с жестяной крышей и большим железным крестом. В центре креста было солнце, похожее на ежа. На колокольне висел колокол, и когда в него звонили, его могучий голос разлетался на двадцать верст вокруг. Заслышав его, люди крестились и что-то тихо шептали, а Лис удивленно пожимал плечами, глядя на них. Ему нравилась церковь, он не боялся ее. Его не пугал ни голос колокола, ни крест на крыше, хотя вообще-то люди думают, что бесы не любят церквей. Иногда Лис пробирался внутрь во время службы, чтобы посмущать прихожан. Совал им в карманы конские яблоки, чихал громко, дергал баб за юбки, подталкивал парней к девкам и сам терся о них. Однажды он рассыпал по полу нюхательный табак, и обедню не дослужили даже до середины — разбежались, чихая и растирая красные глаза. А Лис зацепился за какую-то перекладину наверху и раскачивался там, смеясь и чихая громче всех. Мужики вышли из церкви, шумно высморкались и, махнув рукой, отправились в кабак. Бабы повели ребятишек домой, где растопили самовар, а потом сели пить чай с маленькими кусочками сахара.
По воскресеньям невидимый Лис пробирался на такие чаепития, воровал сахар, с треском грыз его, сидя в углу. Остатки зажимал в потной ладони и относил муравьям в лес. Там он наклонялся над муравейником, обнюхивал его, подрагивая носом, и высыпал сахар приговаривая:
— А-а, мураши, мураши, футь-футь-футь. Ешьте-ешьте, брюхо тешьте.
Муравьи хватали эти белые глыбы и начинали суматошно носиться с ними по всей горке, не зная, что делать со свалившимся богатством. Бросались расширять входы и затаскивать сахар внутрь. Лис, пофыркивая, наблюдал за ними:
— Футь-футь-футь, мураши.
Последние крохи он закидывал в первый попавшийся улей и, погудев туда, чтобы раздразнить пчел, убегал со всех ног к пруду. За ним летел разъяренный рой, а он только ухал и хохотал. Пробежав незамеченным через всю деревню, он бросался в пруд и плыл на глубину, где на дне, в полумраке, отдыхали русалки. Спящим можно было связать волосы друг с другом, но еще лучше было наловить мелких рыбешек и запустить их водявам под рубашки. Такой переполох начинался!
В церкви вел службы поп. Маленький такой, невидный. Было ему лет около сорока, но до сих пор в нем осталось что-то детское, беззащитное — то ли в неловкой фигуре, то ли в открытой тонкой шее, то ли в близоруком прищуре. Он носил очки, от которых у него к концу службы слезились глаза. Борода его была небольшой и редковатой. Иные батюшки, глядишь, еще в семинарии с бородищами до пупа похаживают, а у этого только к сорока годам и отросла. Здоровьем он был не то чтобы слаб, но очень за него боялся. И когда его вызывали посреди дождливой ночи в соседнюю деревню причастить умирающего, он долго укутывал горло шарфом и всегда надевал галоши. Потом раскрывал на пороге зонт, садился в телегу и говорил мужику, приехавшему за ним: «Ты бы, братец, как-нибудь побыстрее, что ли, а то …» — у него была привычка не договаривать фразы. Мужик, перекрестившись, встряхивал вожжами, а он читал про себя молитву на счастливый путь и, вздыхая, устраивался поудобнее на мокром сене. Еще у него была привычка, идя вдоль стены или забора, постукивать по ним чем-нибудь, хоть зонтиком, хоть рукой, будто ощупывая дорогу. Крестьяне подшучивали над ним за глаза: «Аль, ослеп у нас батюшка-то? Как теперь служить будет? Ну да ничего, может мы когда подскажем, а где, может, сам придумает».
Читать дальше