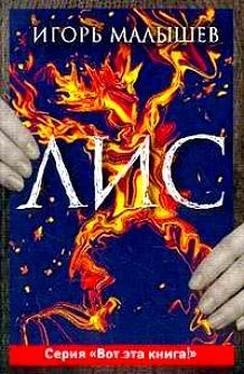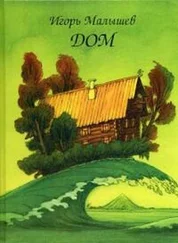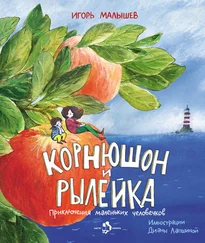Внизу под ветром новым буйством полыхали леса, степь стонала новой вечностью под копытами табунов, жеребцы грызли друг — другу плечи и взвивались выше самых высоких деревьев, солнце играло на их блестящих шкурах. Реки напрягали мускулы в новых изгибах, качая листья кувшинок и стаи мальков, резвящихся у самой поверхности. Оборотни рыскали в дремучих лесах, оглядываясь через плечо на кривой месяц и усмехаясь. Бесы кривлялись, прыгали белками с ветки на ветку, потешаясь над лешими и завывая в высокое небо. Капли срывались с трав, летние дожди разгоняли утренние чуткие туманы. Над равнинами летели серые цапли, садились на мелководье лесных озер, непуганые и красивые. Они ходили на тонких ногах, по колено в воде и хватали неосторожных мальков.
Мир был чистый, сияющий, как омытый дождем. Можно было поднять это небо, этот мир и начать все снова. Можно. Только Лис оттолкнулся ногами и стал всплывать. Снова железные тиски схватили голову и стали раскалывать ее словно лесной орех. На грудь упала страшная тяжесть, но бес только сильнее отталкивался ногами. Опять показалось, что он умирает, и даже уже умер, но он все продолжал и продолжал двигаться. Он знал, куда ему плыть, и плыл сквозь темноту и смерть. Смерть поняла, что сейчас она бессильна, и отпустила его. Темнота отступила, клещи разжались, он вынырнул посреди колодца.
Сердце отчаянно колотилось в груди, в глазах прыгали зайцы и лопались крохотные жилки. Он схватился за бревна сруба и поднял лицо вверх. По утреннему небу шествовали облака, все такие же равнодушные, как и раньше. «А что, если это тоже чье-то дыхание?» — подумал он и засмеялся от этой мысли. В груди что-то дернулось и он, закашлявшись, оборвал смех. Подтянулся на ослабевших руках и лег, задыхаясь, на бревна сруба лицом вверх, чтобы смотреть на небо. Глаза его медленно закрылись, и он уснул, опустив одну руку в воду, где по синему летнему небу плыли белые, как пух, облака.
Он спал, и вот что ему подумалось. А что если кто-то вот так же смотрел когда-то на их мир, и все для него было ново: и как дети плескались в прибрежных водах, и как шаман бил в бубен у дымного костра, и как новые дороги рассекали лица равнин и бороды лесов. Тяжелые деревья падали поперек дорог, и лихие люди караулили возле них беззащитных путников, сжимая рукоятки широких ножей в ножнах из кожи быков. Они думали, что жизнь надо раскидать, словно монеты по дорогам. А девы пряли и пели песни о суженых, бродящих в неизвестно каких землях с полупустыми колчанами стрел в хищных зазубринах. Где-то далеко на севере человек вырубал себе первый нож из камня и поднимал его к небу, любуясь формой, крича и потрясая своим страшным и невиданным здесь доселе оружием, грозил то ли неведомым врагам, то ли небу, то ли самим богам, против которых пошел, делая нож. Чародеи бросали в чаши заповедные травы и вдыхали запахи зелий. В небо поднимались закаты, красные, как первая кровь. Под землей бродили кроты, обходя корни деревьев, находя драгоценности, и, идя дальше, не зная им цены. По дну рек и озер путешествовали раки, увязая в иле и песке, и тараща глаза в подводную темноту. По дорогам и без них брели люди, не нашедшие своего угла и потому идущие из одного селения в другое, поющие странные песни и танцующие невиданные танцы. За это им давали еду и кров, девушки жарко целовали их украдкой и провожали со слезами. А они шли в любую сторону света, неважно, быстро или медленно, лишь бы не сидеть на месте.
Мухомор потом часто спрашивал его, почему он не вытащил новое небо, а Лис только смеялся и ничего не говорил. Один раз только ответил, что ему ничего другого и не надо, здесь он живет, здесь ему хорошо.
Семен опять запил. Достал гармонь, запас самогона на неделю и дверь запер. Семен жил на отшибе, с полверсты до ближайшего дома. Помрет — не узнаешь. Дом у него неплохой — теплый, да и сам он хозяин хороший. Калитка висит ровно, забор — дощечка к дощечке, дома везде прибрано, на стене часы щелкают — тишину разгоняют. А вот из скотины почему-то только одну корову держал и больше никого, хоть и предлагали ему и коня, и птицу. Не брал. Корову же свою любил как родную, даже чудил из-за нее. Весной, когда первый раз на траву выпускал, на рога ей ленты повязывал, что от дочки остались. Брал в руки гармонь и с песнями провожал в поле. В поле корова вставала и, неуверенно оглядываясь, начинала как-то растерянно есть, то ли забыв все за зиму, то ли не доверяя своему счастью. А Семен пьяный похаживал рядом и поигрывал на гармошке.
Читать дальше