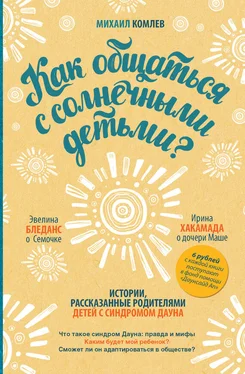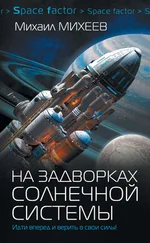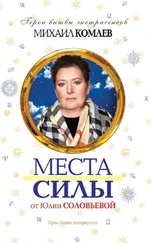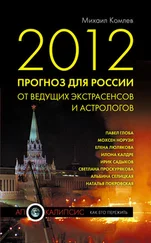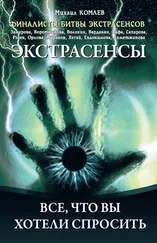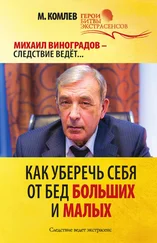Моему врачу, которая вела беременность, диагноз сообщили раньше, чем нам. Она позвонила мне и сказала: «Лена, твой ребенок даун». Я спросила, что это значит, и она объяснила, что это умственная отсталость и «он будет овощ». Тут я начала плакать. Это был 2000 год, Интернета под рукой тогда не было, получить информацию было негде. Я позвонила супругу, и мы с ним плакали уже вдвоем, я – на одном конце Москвы, он – на другом. Потом медики, которые выхаживали ребенка, осудили поступок этой врачихи: так сообщать родителям подобную информацию нельзя.
Уже много лет спустя, когда я начала заниматься проблемами детей с инвалидностью и готовилась к заседанию в Совете по вопросам попечительства при правительстве, я с помощью «Даунсайд Ап» нашла очень важный французский документ. Это меморандум, подписанный премьер-министром и министром здравоохранения Франции, где сказано, как надо сообщать такие новости беременным женщинам, у которых выявлена патология, и роженицам.
Это документ на многих страницах, и там прописано все: как подойти к женщине, как сообщить, как обрисовать будущее, как показать родителям, что они будут не одни, что их обязательно поддержат социальные службы. Я попыталась использовать этот подход при разработке методических рекомендаций по профилактике отказов от детей с выявленной патологией, проект которого мы готовили для Минздрава, но этого недостаточно. Должен быть разработан документ, аналогичный французскому меморандуму, из которого очевидно, что эти проблемы были не только в нашей стране, и пути их решения уже разработаны.
Люди, которые агитируют родителей отказываться от проблемных детей, забывают, что для матери это долгожданный ребенок: она представляла, как он родится, как она будет ему радоваться. Через пару лет после того, как я родила, возникла обязательная перинатальная диагностика, которая должна выявить синдром Дауна. Но это сложная процедура, и она не всегда хорошо заканчивается. Многие сознательно отказываются от инструментальных исследований, потому что они могут навредить ребенку, вплоть до возможности выкидыша. А сейчас появились новые безопасные методы скрининга, и детей с синдромом Дауна в Европе сейчас рождается все меньше и меньше.
Андрюша был очень слабый. Я не помню, чтобы нам сразу определенно предлагали от него отказаться, но кое-кто говорил, что с ним будут сложности, что в арабских странах таких детей выбрасывают в мусор. Это были не врачи, у которых я рожала и которые потом вели ребенка, но люди, работающие в медицине. Потом нам сказали: «Ребенок слабый, надо попробовать его не так сильно выхаживать, чтобы он долго не жил. Но для этого вам придется от него отказаться». И мы немедленно забрали его из больницы.
Мы перевели Андрюшу в неонатальное отделение Института педиатрии РАМН и никому не сказали, что с ним. Мы очень сильно переживали. Сами мы тогда не очень понимали, что такое этот синдром Дауна, и боялись, что этот диагноз скажется на отношении персонала к ребенку. Потом он начал есть, набирать вес. Когда мы пришли на консультацию, нам сказали: «У вас фенотип такой, что возможна ошибка, перепроверьте». Мы перепроверили, но ошибки не было. Я очень тяжело переносила эту ситуацию. Супруг сразу принял решение, у него не было сомнений, и нам очень помог мой брат. А мне было трудно все это принять.
Андрюша родился 5 декабря, а выписали его 19 января. Пока он был в больнице, лежал в кувезе, мы приходили туда, принесли ему статуэтку Шивы, меняющей жизнь, которую нам дал мой брат, крестный обоих наших детей. И еще мы положили туда икону Георгия Победоносца. А потом вот так в комплекте мы и перевезли его на выхаживание – на машине Скорой помощи, в кувезе, с этой статуэткой и иконой.
Дома Андрюша пошел на поправку, и главное для нас тогда было, чтобы он просто выжил. А потом мы совершили роковую ошибку: мы обратились не в «Даунсайд Ап», а в Институт коррекционной педагогики. Поначалу ситуация была утешительной, лет до трех речь шла о вторичной задержке психического развития. Тогда еще не было коррекционных садов или специальных групп в них. У нас была няня из дома ребенка, и мы возили туда Андрея, чтобы он социализировался. Есть отдельная проблема, связанная с проявлением аутистических черт у детей. Это случается в те возрастные периоды, когда бывают гормональные изменения. У Андрюши это проявилось в пять-шесть лет. Это был серьезный откат. К тому времени он уже начал говорить простые фразы: «Мама, дай! Саша, иди!». Если не говорил, то мог показывать. И вдруг в течение года произошел резкий откат, проявились абсолютно типичные аутистические черты: самоуглубление, сидение, раскладывание чего-то в ряд, раскачивание. Мы не знали, что делать, стали шарахаться из стороны в сторону. Нам стали давать медикаменты, которые довели ребенка до судорожной готовности, а потом я отказалась от таблеток и сделала упор на коррекционной педагогике. Он занимался с педагогами, каждый из которых старался изо всех сил. Мы его вытащили из аутизма, но отдельные черты остались: он стал менее открытым, а речь больше уже не вернулась никогда. Сейчас Андрей – невербальный ребенок, он не говорит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу