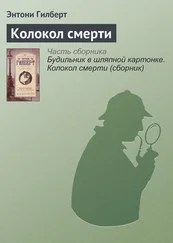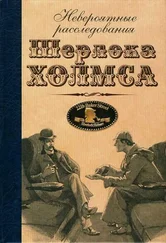Можно предположить, что эти «внутренние часы» участвуют в процессах обусловливания, включающих рефлекторные реакции, которые, как я уже говорила, не связаны с восприятием причинно-следственных отношений. Аналогично и действие внутренних часов можно считать независимым от какой-либо концепции времени, но если принять теорию Гийо, то получается, что они могут создавать основу для восприятия времени. Гийо [318] полагал, что идея (или восприятие) времени порождается наполненным активностью интервалом между желанием и его удовлетворением: младенец, который сучит ножками и кричит в ожидании пищи, научается различать длительности через ощущения, вызываемые разными степенями напряжения и усталости. Пиаже [319] считает, что восприятие времени начинается в процессе манипуляции объектами, и первоначально время приписывается объекту. Эти две точки зрения могут быть совместимы. Время, воспринимаемое по Пиаже, может являться физическим (ньютоновым) временем – функцией объективно наблюдаемых массы и скорости, а время, воспринимаемое младенцем по Гийо, может быть подобно более примитивному времени древних цивилизаций, в котором последовательности событий рассечены на настоящее, с его характерной аффективностью, и ожидаемое будущее с его противоположным переживанием завершенности, удовлетворенности.
Гийо заключает: «Il faut désirer, il faut vouloir, il faut étendre le main et marcher, pour créer l\'avenir. L\'avenir n\'est pas ce qui vient vers nous, mais ce ver quoi nous allons» [320] . Бергсон, современник Гийо, также подчеркивал активную роль человека в определении будущего. Гийо далее добавляет, что намерение и сопутствующее ему усилие – первый источник идей действующей причины и конечной причины. Но отношение между причиной и временем – (крайне интересная) тема, которая выходит за рамки данного обсуждения; в любом случае, автор не обладает необходимой для нее философской и математической квалификацией.
О Бергсоне сказано: как сын XIX века, он считал, что всякая подлинная мысль есть мысль о становлении вещей, поскольку длительность – это единственная реальность, а как для философа XX-го века для него становление означало уже не изменяемый, но изменяющийся [321] . «Существовать значит изменяться; изменяться значит созревать; созревать значит бесконечно творить себя». Согласно Пуле, оригинальный вклад Бергсона заключался в его утверждении, что длительность есть не что иное, как история или система законов, – это свободное творение. «Каждое мгновение человек действует, творит свое действие, а вместе с ним… себя и мир».
Такая позиция преодолевает боль беспомощной зависимости от жестоких или равнодушных сил, однако на смену приходит боль ответственности за постоянное творение себя путем уничтожения детерминизма, заложенного в природе вещей. Это экзистенциалистская позиция. Паскаль имел дело с данной проблемой и разрешил ее для себя способом, характерным для его времени в отношении к концу, к цели, и для нашего времени – в выводах по поводу действий в переходный момент:
...
Каждое мгновение вырывается из непрерывности, понимаемой как… выстроенной в линию, протянутую из прошлого в будущее. Каждое… должно переживаться не согласно знанию об историческом развитии, приведшем к нему, а как осознаваемое пророческое мгновение, в согласии с конечным итогом, который есть Бог и жизнь вечная. Трагедия и абсурд человеческой ситуации состоят в том, что человек, по всей видимости, не способен отречься от своего настоящего и выбрать вместо него будущее. И из всего этого я заключаю, что должен проводить все дни моей жизни, не думая о том, что предстоит мне после нее… Я хочу идти, не продумывая заранее свой путь и без страха испытать великое событие, я буду пассивно приближаться к смерти, отдавшись неопределенности моего будущего состояния [322] .
Для Паскаля, как, несомненно, и для Кьеркегора, проект свободы основывался на непрерывности процесса движения из прошлого в будущее, из которой надлежало вырваться. Вероятно, начало аномии [323] приходится на период после Французской Революции, когда, как писал Бенжамен Констан (Benjamin Constant), настоящее стало казаться «настолько близким к небытию… настолько бессвязным, изолированным, не позволяющим ни за что ухватиться, что в нем невозможно найти что-либо, могущее сделать нас счастливее». И – в словах, еще более приложимых к человеческой ситуации в середине двадцатого столетия: «Мы – мертвые, которые, как у Ариосто, из привычек своей жизни сохранили только привычку бороться, придающую нам видимость мужества, поскольку мы храбро рискуем жизнью, которой у нас больше нет» [324] .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу