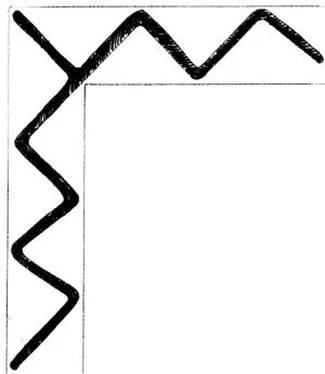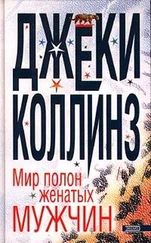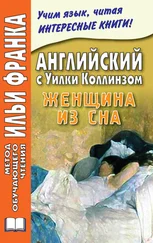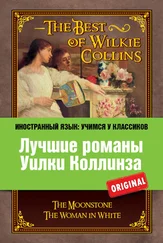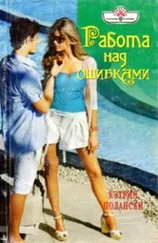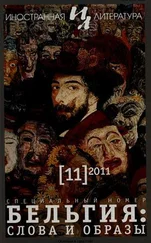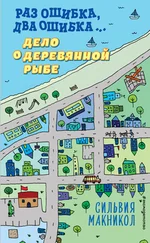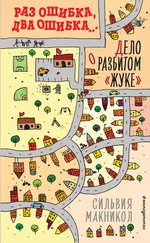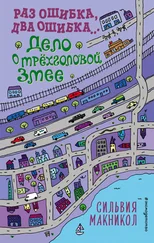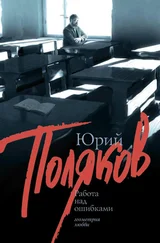Возвращаю девочку-робота; профессор ставит ее безжизненное тело обратно в шкаф. Смотрит на него секунду.
— Люди, — заканчивает она, — это вызов.
Морган сидит развалившись у меня на коленях в нашей гостиной; мы сейчас мыли его под душем, а теперь это безумие наконец-то закончилось. Обняв меня, он все рисует на магнитной доске один и тот же узор — зыбкий круг над прямой линией. Он смотрит на свой рисунок.
— Перископ, — объявляет он.
В эти дни изображения перископа появляются у нас повсюду: ручкой — на пачке бумаги, карандашом — на стене в ванной, краской на полу, маркером на обложке книги, йогуртом на экране его компьютера, даже на тарелке — из кусочков сыра и крекера.
— Перископ, — повторяет он.
— Ага, ты нарисовал перископ, — киваю я.
Морган очаровала голосовая труба в форме перископа из «Телепузиков». В мультике присутствует голос родительской фигуры, голос внешнего мира, искаженный металлическим рупором: в течение дня этот голос появляется неоднократно, то пробуждая телепузиков, то командуя им что-то, и наконец отправляя их спать. Этакий родитель, упрощенный до предела, — тот, кто утешает, командует, дает ребенку ощущение внешнего мира.
Итак, он устраивается поудобнее и рисует еще один перископ.
«Истерический», — произносит компьютер.
Морган щелкает мышкой по ярлыкам с разными программами и наконец добирается до логотипа Кембриджского университета, сообщающего нам, что мы используем программу «Чтение мыслей», версия 1.0. Понимание других людей — любопытная тема исследований, которые давно ведутся в Кембридже, однако впечатление от этого продукта все же становится сильнее, когда узнаешь, что к его созданию причастен Саймон Бэрон-Коэн. «Чтение мыслей» — вовсе не отгадывание загаданного другим человеком числа; это, скорее, что-то вроде «Определи по выражению моего лица, что я намерен сделать». Большинству людей это дано на уровне инстинкта, и мы не очень-то об этом задумываемся, поскольку обучаемся чтению лиц автоматически. А вот аутисты, хотя тоже не задумываются, не делают этого по совсем иной причине: многие из них так никогда и не научаются интерпретировать мимику окружающих, поэтому выражения лиц других людей и не «задевают» их. Чтобы научиться разбираться в социальных ситуациях, им приходится делать то, что у них лучше всего получается, — запоминать и систематизировать. Что и подразумевает программа, в которой мимика человеческих лиц разделена на 412 различных выражений, объединенных в 24 эмоциональные категории. Пользователям предлагаются видеопримеры одной и той же эмоции в исполнении разных актеров — молодых и старых, мужчин и женщин.
Один выглядит неуловимо знакомым.
Гарри Поттер?
Точно: это же Дэниел Рэдклифф, только без своих «фирменных» очков и совы. Здесь, без атрибутов Гарри Поттера, он выглядит… да практически как любой английский парнишка.
«Фу-у», — говорит он. Перед его носом появляется сырой кальмар. Эмоция здесь, понятное дело, отвращение. Рэдклифф мог бы даже ничего не делать, чтобы выразить ее: известно, что подгнивающий кальмар — это один из самых мерзких природных запахов. Да уж, доктор Бэрон-Коэн и его исследовательский коллектив добросовестно выполнили свою работу.
Морган, ерзая у меня на коленях, глядит на меня снизу вверх.
— Смотри, — я показываю на экран. — Гадость!
— Гадость!
— Гадость!
— Га-а… — голос его заливается трелью, — дость!
Дальше мы смещаемся в сторону «истерики». Она названа эмоцией четвертого уровня из шести возможных, и, когда я щелкаю на голосовой пример истерики, программа выдает голосом раздраженной мамаши: «Ну давай же, пойдем». Воистину, это очень британское представление об истерике. Но, при всех этих чересчур аристократических акцентах, выражения лиц на экране вполне универсальны: вот приветливо улыбается старушка, а вот на этом портрете у мужчины улыбка явно не столь же доброжелательна, на следующей картинке мальчик выражает разочарование. Кто бы ни были, откуда бы ни были эти люди — они выражают вполне узнаваемые эмоции. Действительно, с их помощью можно научиться читать лица!
Но даже для людей, способных к интуитивному восприятию эмоций и знающих, как они «выглядят», это трудное задание. Работа Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных» 1872 года, на которую он потратил десятилетия жизни, посвящена всего-то лишь обоснованию положения о том, что и у животных и у людей «одни и те же душевные состояния выражаются по всему миру с отчетливым единообразием». Наша компьютерная программа — словно современное дарвиновское «Выражение эмоций», правда, преследует она цель, которую английский натуралист вряд ли мог вообще себе представить. Однако и в семейной истории самого Дарвина однажды был случай приближения к этой теме. Дедушке Дарвина по имени Джошуа Веджвуд, педантичному ремесленнику-гончару, как-то довелось наблюдать одного странного, совсем не социализированного человека. Это был не кто иной, как — естественно, кто же еще это мог быть?! — Дикий Питер.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу