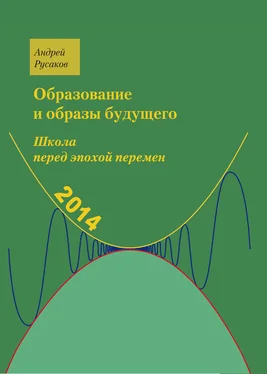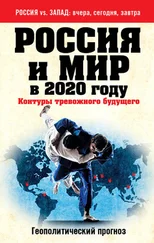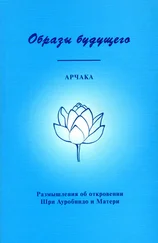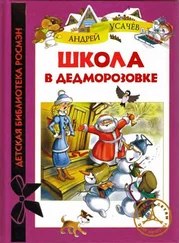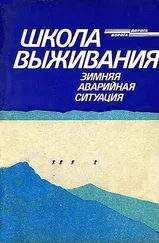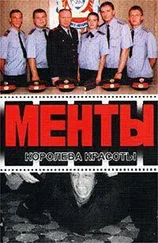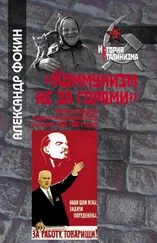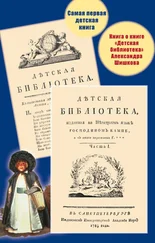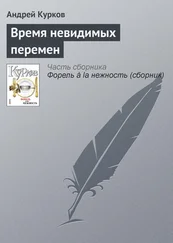Но учитель, какой бы замечательной личностью он ни был, в массовой школе всё равно оставался учителем для одного ученика из трёх. Успешно учить всех ребят неотобранного класса официально утверждёнными методами в массовой школе было гарантированно невозможно.
Революционные перемены, подступившие к порогам школ в середине восьмидесятых годов, начались с этого контрапункта. Учителям, воспитанным в традициях активного соучастия в жизни «лучших» учеников, педагогика сотрудничества предложила принципиально иные методы обучения и показала, как результаты прежних «любимчиков» могут достигаться большинством ребят.
Но такие перемены потребовали и отмены привычной автономности каждого учителя внутри формализованного механизма, требовали налаживания общешкольной осмысленной жизни, сложного диалога между учителями, взаимных сближений и отталкиваний педагогов, радикальных преобразований в школьных коллективах – т. е. дел масштабных и трудоёмких, требующих недюжинной решимости.
Замыслы той педагогической революции были отчасти реализованы, большей частью подавлены.
Другой вектор перемен признавал главной ту же проблему, но решение предлагал более простое. Раз мы не умеем учить разных детей – давайте учить по отдельности. Сделаем школы для умных и классы для… ну, назовём их «классами коррекции».
И если первые гимназии создавались в связи с некими серьёзно продуманными идеями (пусть не всегда педагогическими, то хотя бы культурологическими), если они действительно стягивали к себе лучших учителей и открывали им возможность самореализации – то потом процесс принял чисто социальный характер.
Даже вполне заурядная школа, у директора которой появлялся определённый административный ресурс, старалась объявить себя гимназией и организовать отбор детей – тогда она могла резко вырваться вперёд.
Неустойчивое равновесие между двумя главными акцентами активных школьных перемен продержалось не очень долго; «школой для всех» быть не выгодно во множестве отношений, зато любая гимназия – на виду и в славе.
Ну а третьим, предсказуемым выбором для большинства школ был инерционный – «подождём, пока всё уляжется». (Разумеется, ничего так и не улеглось). Но в зависимости от внешних обстоятельств одни «инерционные» школы сохранялись годами примерно в исходном состоянии, другие же оказывались во всё более тяжёлом и стремительно ухудшавшемся положении.
О твет на вопрос «как изменилась школа?» получается двойственным.Типичная-то школа не так уж изменилась: прежде учителей призывали к «требовательности», теперь к «толерантности», раньше дети лучше учили физику и хуже английский, а теперь наоборот.
Но если ранее «типичными» можно было считать девять из десяти школ, то сейчас – едва ли половину (пройдёт несколько лет, останется дай Бог четверть). «Обычной» школы с разнообразными учителями всё меньше, это своего рода тающий айсберг (хотя все продолжают делать вид, что именно он и есть синоним «системы общего образования» в России).
Изменилась как раз не сама «обычная» школа – изменился её удельный вес и изменилось всё, что её окружает.
Когда в одни школы под крыло сильного директора собирались толковые учителя – то откуда-то они уходили. Когда в одни школы отбирались дети интеллигентных семей, то обнажались другие, формируемые методом «отбора наоборот».
Так разрасталась сумрачная когорта школ, в которых ребёнок за одиннадцать лет мог не встретить ни одного яркого учителя, ни одного заинтересованного, ни одного, обладающего хоть какими-то амбициями.
Не то, чтобы все учителя «сумрачных» школ так бесталанны – но они привыкают видеть себя пришибленными, униженными, ведомыми обтекаемыми оговорками: «Что мы? мы – как все», «как мне платят – так я и работаю», «дети делают вид, что учатся – а мы делаем вид, что учим», «а что мы можем? сами понимаете…».
Безнадёжность «сумрачных» школ наглядна, но наглядной становится и «ложнокачественность» образования в гимназиях средней руки. Посильно ли впихнуть в голову школьника как можно больше несвязных сведений по всем предметам? В обычных условиях – трудно, но если родители очень дорожат школой, то почему же нет? Взрослых радует, что здесь «учат как нас учили», спрашивают на всех уроках так, «чтоб не продохнуть».
Увы, информационная эпоха не повышает ценность случайных сведений, а ведёт с собой их гиперинфляцию. Информации – бездна, она всем доступна и ничего не стоит. Драгоценными же становятся умения извлекать смыслы, решать задачи, нащупывать взаимосвязи, предпринимать нетривиальные усилия, задумывать и реализовывать проекты.
Читать дальше