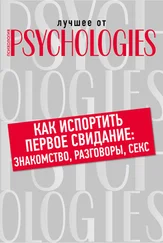Тут папа догоняет меня и говорит:
– Сначала я полчаса ждал, пока ты попьешь чаю с шарлоткой. Так? Потом еще полтора, когда у тебя перестанет живот болеть и кино закончится. Верно? Потом, когда понизится температура, когда ты в шахматы наиграешься… Но я не устраивал тебе никаких скандалов, не кричал на тебя, не шел задом наперед по эскалатору. Я уж не говорю о том, что ботинки мы едем покупать не мне, а тебе!
– Не нужны мне никакие ботинки!
– Да ладно тебе, – говорит. – Хватит дуться. Разворачивайся! Плыви по течению – так быстрее. Тем более что нам всего-то одну остановку проехать и все.

Не знаю, как я тут оказался. Просто очнулся в кромешной тьме, совсем без одежды. Тут сыро и очень тесно. И тихо, да. Иногда, правда, раздаются какие-то звуки, но я слышу их, как будто из под толщи воды. Только один женский голос звучит чаще других и, кажется, совсем рядом, но слов все равно не разобрать. Тут нет даже небольшого окошка, даже щелочки, чтобы хоть одним глазком увидеть, что происходит снаружи, день или ночь, лето или зима? Совершенно не помню, как я сюда забрался, и не представляю, как отсюда выбираться.
Папа говорит, что однажды я поинтересовался у мамы:
– А где я был, когда меня еще не было?
– У меня в животе, – ответила она.
– Ты меня съела? – зачем-то спросил я, хотя и так было понятно.
Сейчас, когда я уже почти взрослый, с трудом представляю себе, что находился в животе у мамы практически целый учебный год. Мне бывает сложно высидеть сорок пять минут за партой. Ума не приложу, чем я там занимался все это время. Да еще в полной темноте! Ни разу не выходя на прогулку и даже не имея возможности пригласить кого-нибудь в гости, без компьютера и телефона, совершенно один! Это все равно, что застрять в лифте на девять месяцев, даже еще хуже.
В общем, не знаю, как я все это пережил. Жуткое было время! Но совершенно точно – больше я на такое ни за что не соглашусь.
Папа, естественно, сильно обо мне беспокоился все то время, что я был у мамы в животе: как я там себя чувствую? все ли со мной хорошо? получится ли у меня удачно родиться? буду ли я похож на него? И хотя я находился совсем рядом, никакой связи со мной не было. В общем, волноваться за меня он начал задолго до моего рождения.
– Когда твоя мама была беременна, – рассказывает, – она уговорила меня пойти вместе с ней в поликлинику. Там есть специальный аппарат. Он исследует организм человека с помощью ультразвуковых волн, называется УЗИ и позволяет увидеть тебя на мониторе еще до появления на свет.
– Ты меня видел, когда я был у мамы в животе? – удивляюсь. – И что я там делал?
– Что делал! Сидел тихо в позе эмбриона, даже в носу не ковырял.
– В какой еще позе?
– Эмбриона.
– Как это?
– Свернувшись калачиком, сидел, как все эмбрионы.
– Ты тоже был эмбрионом?
– А как ты думаешь? Все через это проходят, – вздыхает.
– Совсем ничего не помнишь?

– Когда я был эмбрионом?
– Ну да!
– Нет, но зато я отлично помню то время, когда эмбрионом был ты. Так вот, мы с твоей мамой пришли делать ей УЗИ, доктор долго всматривалась в экран и вдруг говорит мне: «Вот яички вашего мальчика!». Там действительно ничего не было видно, кроме яичек. Ночью я не мог заснуть. Ворочался и представлял, что вот родятся яички. Одни только яички и все. Как мы их назовем? Как сложится их дальнейшая судьба?
Но даже после того, как я благополучно появился на свет, он не перестал волноваться. Он переживает всегда и по любому поводу: не замерз ли я и не слишком ли мне жарко, дошел ли до школы и вернулся ли домой? Если болею, он измеряет мне температуру каждые полчаса. Однажды он позвонил в администрацию бассейна, в который я хожу на плавание, чтобы узнать, не утонул ли я.
Папа оправдывается тем, что если бы, кроме меня, у него было еще несколько детей, ему было бы спокойнее. Потому что, если с одним что-то случится, то останется еще несколько про запас. А так – всегда приходится быть настороже.

Лег я спать и свет уже потушил. Тут папа заходит в комнату и говорит:
– Спокойной ночи, – целует меня в лоб и собирается уходить.
Читать дальше