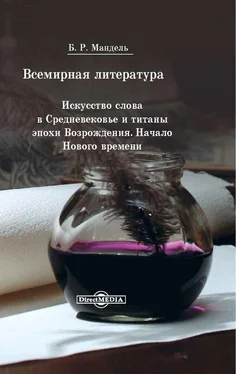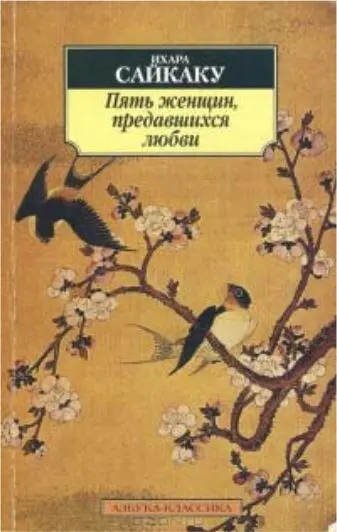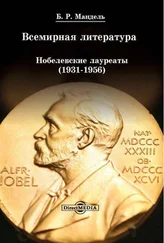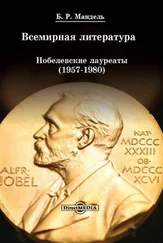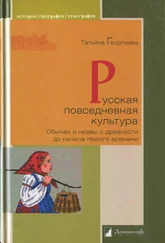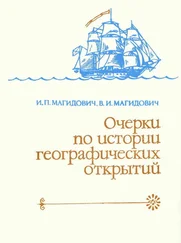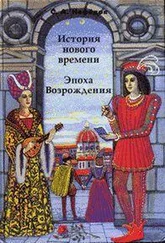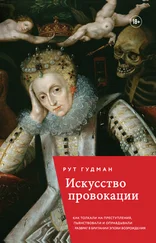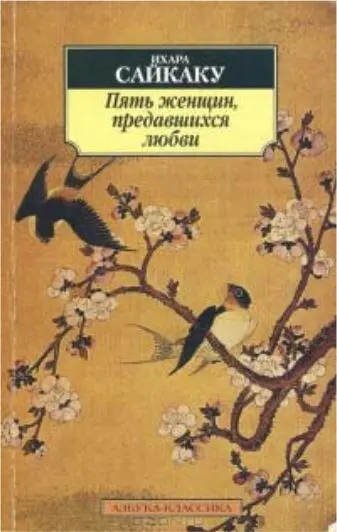
Одно из российских изданий книги Сайкаку
Новый этап в творчестве и развитии реалистического метода Сайкаку знаменует книга «Косёку гонин онна» («Пять женщин, предавшихся любви», 1686). В этом сборнике повествуется о судьбах пяти женщин из городской среды, которые, повинуясь велению сердца, преступают законы семьи и официальной конфуцианской морали. Предметом художественного осмысления теперь становится человек, вынужденный в силу своего положения считаться с требованиями официальной этики, но не желающий с ними мириться, отстаивающий свое право на свободное чувство. Немаловажно и то, что сюжет каждой из пяти новелл этого сборника, в отличие от первого романа Сайкаку, основан на реальных событиях, хорошо известных читателям: о них сообщалось в хрониках городской жизни – в так называемых «листках с происшествиями», служивших далеким прообразом современных газет и журналов-таблоидов.

Из иллюстраций к произведениям Сайкаку
Героини книги «Косёку гонин онна» абсолютно осознанно и совершенно добровольно идут на «преступление». Они не только чувствуют и поступают по-новому, но и думают по-новому. С этой точки зрения примечателен следующий эпизод из новеллы о составителе календарей. Осан, жена придворного составителя календарей, вступившая в противозаконную связь с приказчиком Моэмоном, вынуждена бежать с ним в отдаленную провинцию. Остановившись на ночлег в храме, герои видят сон, в котором бодхисаттва Мондзю советует им, пока не поздно, дать монашеский обет и ступить на Путь Просветления. Но Осан отвечает: «Что бы там ни было в будущем, не беспокойся о нас! Мы по собственной воле, рискуя жизнью, решились на эту измену…».
«По собственной воле, рискуя жизнью», решаются на проступок, влекущий за собой трагедию, Онацу, полюбившая приказчика, и жена бондаря Осэн, вступившая в тайный сговор с мужем соседки, Осити, которая, не найдя иного способа увидеться с возлюбленным, устраивает пожар в родительском доме.
На фоне первых новелл сборника с их трагической развязкой выделяется пятая новелла со счастливым концом: герои этой новеллы – Оман и Гэнгобэй, вкусившие все печали и горечь жизни, в конце концов, благополучно женятся. В наследство от родителей девушки они получают в сказочное богатство (помимо денег и драгоценностей, волшебный мешок с сокровищами бога богатства Дайкоку, счетную книгу бога-покровителя торговли Эбису и прочие диковинные вещи). Условность сказочной развязки тем более заметна, если учесть, что реальные события, легшие в основу ее фабулы, трагичны (известно, что в 1663 году Оман и Гэнгобэй, реальные прототипы персонажей Сайкаку, вместе покончили с собой).
Сказочное разрешение конфликта в этой, заключающей сборник новелле существенно для понимания специфики воссоздания действительности в искусстве той эпохи в целом. Эстетическое сознание проводило отчетливую грань между миром, творимым в художественном произведении, и миром подлинным. Условность концовки новеллы, по-видимому, понадобилась Сайкаку для того, чтобы его книга воспринималась как произведение художественное, вымышленное (фикция, мистификация), а не как документальный рисунок реальных событий. Но и нарочитая вымышленность этой благополучной развязки снимается иронической заключительной фразой автора: «Гэнгобэй и радовался и печалился… За одну свою жизнь эдакого богатства не истратишь…»
У Сайкаку, как и у Боккаччо или Сервантеса, старые формы наполнялись новым содержанием, опровергались новым восприятием мира. Эта особенность художественного метода Сайкаку наглядно проявилась в повести «Косёку итидай онна» («Женщина, несравненная в любовной страсти», «История любовных похождений одинокой женщины», 1686), которая может быть понята и как отголосок, в некоторой степени, пародийный, средневекового жанра повести-исповеди. Кажется поначалу, что Сайкаку строго следует канону этого жанра – посещение путником (в роли путника выступают автор и двое юношей, изнуренных любовной страстью), уединенной хижины старухи-отшельницы, которая рассказывает им историю своей жизни, заставившей ее в, конце концов, ступить на стезю спасения. Но, по существу, Сайкаку изобличает условность названного жанра, пародирует его общие места. Так, хижина отшельницы носит отнюдь не совсем не подобающее название – «Обитель Сладострастия», а хозяйка оказывается не «чистой сердцем святой», а разряженной старухой, которая, опьянев, затягивает песню о любви. Героини исполнена непривычного для средневекового жанра смысла – из иллюстрации идеи непрочности бытия и необходимости отрешения от земных страстей рассказ о ней превращается в правдивую повесть о трагической судьбе женщины в «изменчивом мире» наслаждений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу