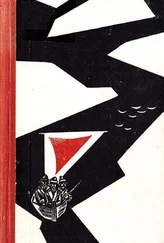Были и другие географы, кроме Фалеса, значительно опережавшие свое время. Но все-таки география в целом, ее содержание, сводилась к описаниям и открытиям. Но что можно описывать и открывать?.. Очевидно, то, что не описано и не открыто… А если все описано и открыто?
Знаменитый географ Паганель, как известно, путешествовал на яхте «Дункан» в шестидесятых годах прошлого века, то есть как раз в тот период, когда заканчивался процесс описания Земли.
Теперь мы сможем понять его горе, его сомнения. Вот как рассуждал этот географ-энтузиаст.
«Существует ли большее удовлетворение, большее счастье, чем то, которое испытывает мореплаватель, наносящий на судовую карту свои открытия! Перед его глазами возникают новые земли, остров за островом, мыс за мысом, они словно всплывают из недр морских! Сначала контуры этих земель смутны, изломаны, прерывисты: вот тут — уединенный лагерь, а там — отдаленная бухта, а еще дальше — затерянный в безграничном просторе залив. Но постепенно открытия дополняют друг друга, линии уточняются, пробелы на картах уступают место штрихам, очертания бухт врезаются в сушу, мысы увенчивают исследованные берега, и вот, наконец, новый материк во всем своем великолепии с его озерами, его реками, его потоками, его горами, его долинами и его равнинами и деревнями, городами и столицами возникает на глобусе. Ах, друзья мои! открывать неведомые земли, это — творить, это — переживать волнения и неожиданности! Но ныне этот источник почти исчерпан: все известно, все исследовано, все новые берега и материки занесены на карту, и нам, теперешним географам, больше нечего делать» [1] Жюль Верн, Собр. соч., т. 3, М., 1955, стр. 65–66.
. Географам больше нечего делать!.. Это звучит грустно, почти трагично…
Но не ошибался ли наш друг Паганель?.. Если сделано одно дело, то почему нельзя взяться за другое? Если пройден один этап в развитии науки, то почему не может начаться второй?
Но согласимся все-таки, что у Паганеля имелись основания беспокоиться о судьбе географической науки: все описано, все открыто… К сожалению, беда заключалась не только в этом. Вспомним, что описывал Марко Поло: животных, растения, горные породы, реки, климат, быт населения, хозяйство, то есть путешественник-географ работал не только на свою науку, но и на: 1) зоологию, 2) ботанику, 3) геологию, 4) гидрологию, 5) климатологию, 6) этнографию, 7) экономику. И на самом деле все эти науки развивались в теснейшем контакте с географией, порой включались в нее, география накапливала для них материал, «пестовала и растила» их.
Но, окрепнув, эти науки не пожелали считаться со своей опекуншей-прародительницей и заявили права на независимое существование. Что ж, это требование было абсолютно законным. Окрепнувшие благодаря географическим открытиям естественные науки начали развиваться так быстро и успешно, что вскоре оставили географию далеко позади. Но и с этим можно было бы мириться, если бы… если бы эти науки, в своей совокупности, не подменили географию! Они — перечисленные выше науки — разобрали все, что описывали географы, — и живую природу и неживую, и деятельность людей, оставив «прародительницу» на пустом месте, у погасшего очага…
И тогда наиболее торопливые заявили: «География больше не существует».
Впрочем, приверженцами столь решительных заключений, как правило, были не географы, а представители тех самых «неблагодарных» наук, которые «ограбили» географию.
Географы боролись, искали, думали… Не может исчезнуть наука, просуществовавшая несколько тысячелетий. Не может!.. Но… Где же выход из кризиса? Как должна развиваться география дальше? Каковы ее новые задачи? Или их нет?..
Да, все-таки она молодая! Или, точнее, география переживает вторую молодость.
Позволим себе повторить сказанное. Ботаника отобрала у географии растительность, зоология — животных, геология — горные породы, гидрология — воду, климатология — воздух и солнечное тепло, почвоведение (эта наука возникла совсем недавно, в конце XIX столетия) — почву, геоморфология — рельеф.
Но скажите, приходилось ли вам когда-нибудь слышать, чтобы в тундре росли дубравы, а где-нибудь под Киевом — полярные маки, полярные березки, куропаточья трава? Чтобы в тундре вили гнезду аисты, а под Киевом паслись стада северных оленей? Чтобы на черноземных почвах росли еловые леса, а на кислых подзолистых — ковыль? Чтобы в тропиках шел снег и с пальм опадали листья, а под Москвою круглый год зеленели березы? Чтобы у подножия горы лежали ледники, а на заоблачных вершинах цвели фисташки или созревали грецкие орехи?
Читать дальше
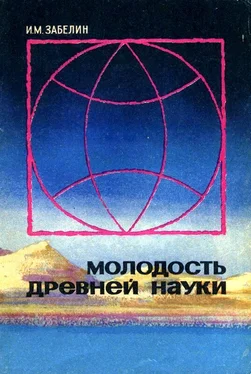


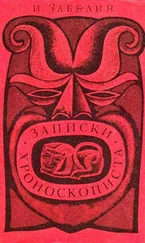
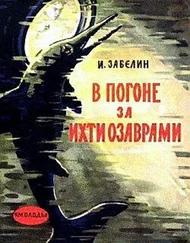

![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/408249/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno-thumb.webp)