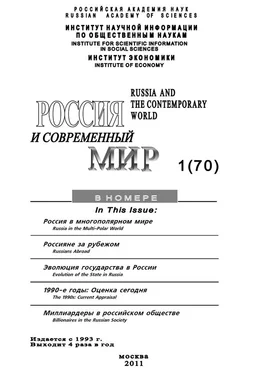Дело в том, что «возвращение России на Дальний Восток» несло с собой не только увеличение финансирования федеральных проектов, но и прекращение «льготного» правового режима, прежде всего таможенного, который никогда не был введен де-юре, но существовал фактически. Руководство экономикой региона все 90-е годы полностью лежало на его формальном и неформальном лидерах, которые создавали альянс. Неформальный лидер руководил «внутренней политикой» и экономикой субъекта Федерации, а формальный – вел диалог с центром и сообщал экономической системе региона необходимый уровень легальности. Вполне понятно, что как «стационарный бандит» (по модели М. Олсона) такой индивидуальный или коллективный глава был заинтересован в росте доходности «своего» бизнеса, а неформальный – прежде всего в «неформальном налогообложении», в неформальных выплатах, поскольку формальные выплаты подлежали «переделу» с центральным бюджетом, доля которого год от года увеличивалась. Соответственно, формальные выплаты снижались, и это вполне допускалось властями предержащими.
Еще более значимым было «взаимопонимание» в области таможенной политики и льготного режима пересечения границы, позволившим хозяйству Дальнего Востока взаимодействовать с инновационной экономикой «глобальных ворот» Северо-Восточной Азии. Более того, дальневосточная продукция и дальневосточные предприятия пользовались преференциями. Их грузы «мягче» и, что принципиально в условиях российской таможни, быстрее досматривались, совокупные платежи (сборы, неформальные платежи, убытки от потери времени и др.) были меньше, чем те же выплаты «чужих», хоть и российских фирм. Причины понятны. И таможенники, и бизнесмены, и региональные власти, и население были заинтересованы в том, чтобы деньги и товары не «утекали» из региона. Это создавало серьезные конкурентные преимущества дальневосточной продукции на рынках АТР. Она там, действительно, была дешевле, чем внутри страны. Но такой «региональный протекционизм» мало устраивал государственные корпорации и просто крупные предприятия, проявившие интерес к транзитным возможностям региона: их грузы простаивали на дальневосточных таможенных переходах и в портах, подвергаясь самому суровому досмотру. Такая ситуация была осмыслена как «рассвет коррупции», что в общем соответствовало дефиниции, но совсем не соответствовало представлениям жителей региона.
Вполне устраивающий всех способ организации регионального сообщества и его материального обеспечения вошел в противоречие с задачами федеральной власти и, что существенно, вошел в противоречие неожиданно. Ведь согласно мифологическим представлениям, которые, кстати, вполне согласовывались со статистическими данными, зачастую еще более мифологическими, регион был «пуст» и «беден», остро нуждался в инвестициях, людях и т.д. Наличие у «пустоты» собственных, причем жестко отстаиваемых интересов оказалось шоком. Эту «ненормальность» поспешили исправить люди в погонах пришедшие на Дальний Восток вместе с очередным полпредом О. Сафоновым. Их усилия были направлены на «наведение порядка» в регионе, страдающем от коррупции. Масштаб явления при этом оставался практически неизвестным. Начались многочисленные уголовные преследования высоких должностных лиц регионального уровня, «закручивание гаек» в таможне, милиции, миграционной службе и т.д.
Прежнее положение воспринималось местными акторами, как нормальное, местная и региональная власть, по большей части, обладала легитимностью, поэтому внешнее воздействие было осознано как структурное насилие, вызвав консолидацию региональных властных и экономических сетей. А так как законодательная норма, с которой центр «вернулся» на Дальний Восток, формировалась под те самые масштабные проекты и структуры, которые и составили конкуренцию местным видам деятельности, то последние постоянно оказывались в проигрыше. Правила игры, сложившиеся за полтора десятка лет, начинают давать сбои.
Обеспечение порядка и безопасности было возложено на местные власти, которые победили в жесткой схватке с криминалитетом в 90-е годы. Формальный статус властного лица не имел значения – он мог быть федеральным, региональным или даже муниципальным служащим. Важно, что именно он обеспечивал эффективное функционирование сети, экономическую транзакцию. Власти региона попытались «самортизировать» воздействие формального права, понимая его гибельность для хозяйственного комплекса региона.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу