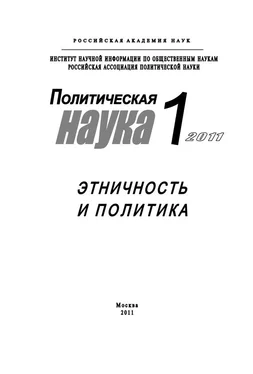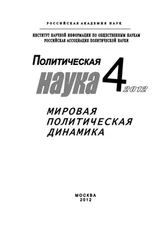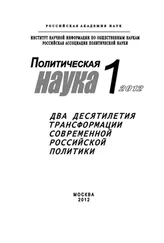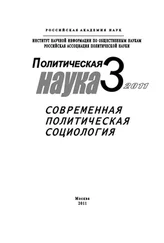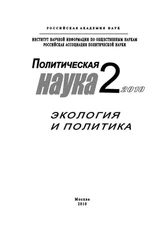«Этнополитика» как курс – это область политико-админист-ративного управления, формирование общенациональной (федеральной) «повестки дня», централизованное или региональное нормотворчество, программно-целевой подход, текущее регулирование. Ядром этого семантического пространства выступает связка «этничность – власть». «Этнополитика» как сфера – это не только (и, возможно, не столько) дело интегрированного целедостижения, но совокупность многообразных способов деятельности и моделей поведения множества разношерстных «действующих лиц», пестрого состава акторов или агентов. В центре этой семантической проекции, по-видимому, можно без большой погрешности поместить концепт «влияние», соискателями которого зачастую выступают всевозможные элиты, «этнические активисты», «антрепренеры» [см.: Паин, 2004].
Далее, в разграничении обеих смысловых граней этнополитического существенны и такие дихотомии: «политическое управление – политическое поведение»; «определение политики – участие в политике»; «выработка политики – отношение к политике»; «стратегический подход – ситуационный подход»; «институциональная деятельность – неинституциональная активность», «нормы – предпочтения», «поддержка – протест» и т.д.
Наконец, важной стороной различения того и другого является то, что можно обозначить как «уровни участия». Заслуживает внимания, к примеру, пилотное издание словаря «Этничность», предпринятое под эгидой Международного совета по социальным наукам и Комиссии по концептуальному и терминологическому анализу. Предложенная составителями словаря аналитическая матрица разбита на следующие содержательные категории:
– «этничность как политика»;
– «этничность как психология»;
– «этничность как классификация»;
– «этничность как область исследования».
Она также выделяет следующие «уровни интенциональности» (указание на тех, кто вовлечен в обсуждение):
– «этнические акторы»;
– «должностные лица администрации»;
– «исследователи-обществоведы»;
– «методологи» [см. подробнее: Мухарямов, 1996, с. 62–63].
В приведенной матрице важна не корректность номенклатур или полнота таксономии. Оба измерения можно по-разному градуировать и дополнять. Этничность, разумеется, содержательно представлена отнюдь не только в четырех названных разрядах. Собственную «интенциональность» демонстрируют «действующие лица» значительно более широкого спектра, включающего множество элитных (суб– и квазиэлитных) категорий: региональные и трансрегиональные, символьные, медийные, вероисповедные, профессионально-гуманитарные и пр. Большее значение имеет сам акцент на разные формы интенциональности.
«Этнополитика» как официально декларированный курс предполагает определенную мотивацию, соображения и виды. Стержневым началом в деятельности властных инстанций здесь, как и везде, выступает стремление к легитимации, что может получать какое угодно доктринальное обрамление. Репертуар официально-идеологических формул в отечественных условиях эволюционировал во времени от «дружбы народов», «расцвета и сближения» в былые времена до «межэтнической стабильности» или «толерантности» в наши дни.
Структуры интенциональности в «этнополитике» как сфере скорее не иерархичны по критериям политико-административных компетенций, но стихийно переплетены во всем пространстве многообразных практик.
Индивидуальные акторы здесь выступают в роли соискателей самых разных вещей, когда ставкой является тот или иной бенефиций – признание и уважение, самореализация, неформальный статус или престиж в глазах соратников, карьерные преференции, академические звания и должности, эфирное время и тиражи, гранты и лекционные туры, узнаваемость и прочая символьная ликвидность, идейно-моральная капитализация.
Разнообразные программы, доктрины, платформы, любые интенциональные декларации этнополитических движений и способы их идеологического обоснования в качестве семантического ядра содержат требования , варьирующиеся в пространных пределах. Спектр практикуемых стратегий имеет протяженность от умеренных принципов «культурного возрождения», «аккомодации», «автономизма» до радикальных версий «сепаратизма» и «ирреденты», включая пандвижения и панидеологии.
В названном контексте часто возникает нужда в семантических нюансировках, чему легко подыскать показательные примеры. Комментируя пресловутый «парад суверенитетов», Г.В. Старовойтова писала: «В течении 1990 и 1991 гг. все российские автономные республики в одностороннем порядке стали объявлять себя “суверенными государствами”… Парадоксальным является то, что идея суверенитета в российском политическом словаре того времени не подразумевала независимость или возможность отделения от России. Она просто предполагала больше свободы для территорий распоряжаться своими естественными ресурсами по своему усмотрению, заниматься международной торговлей и вести переговоры о величине налога, который им следует платить федеральному правительству» [Старовойтова, 1999].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу