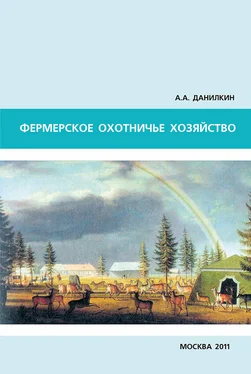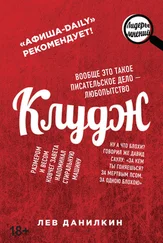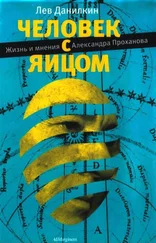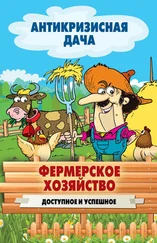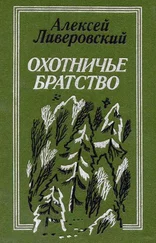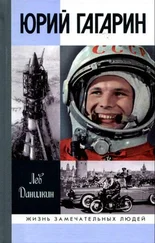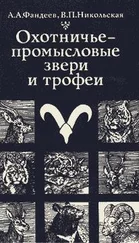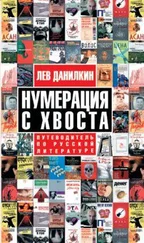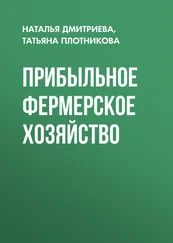В окрестностях Москвы находились также несколько потешных дворов (Семеновский, Преображенский, в селах Коломенское, Хорошево, Воздвиженское и Царицино), где содержали крупных хищников и редких птиц и, в Преображенском, ланей. На потешных дворах охотники нередко выходили на медведя один на один с вилами или рогатиной. В Александровской слободе Владимирской губернии зверинец и охотный дом с сокольней и псарней из сотни собак завела великая княжна Елизавета Петровна.
В зверинцы и на охотные и потешные дворы живых зверей и птиц, по высочайшему повелению, доставляли из-за границы и едва ли не со всего государства российского, но более всего – из окрестных губерний. Нередко егеря и сами выезжали на отлов зверей и птиц. Под Петербургом, в Астрахани, Казани и Царицыне для передержки пойманных животных были построены специальные дворы. Из Астрахани лишь в 1737–1741 гг. отправили около тысячи птиц, преимущественно весной на стругах. В середине кораблей устраивали водоем, на котором птицы могли плавать во время долгого пути. Тем не менее, многие из них гибли. Серых куропаток отправляли отсюда по нескольку сот пар тоже на стругах, а из других мест – зимой на санях в коробах. Из Астрахани, или через нее, переправляли в Петербург и Москву оленей, сайгаков, косуль, кабанов, диких быков и зубров с Кавказа. Постоянным поставщиком копытных зверей, включая диких лошадей, была Украина и Воронежская губерния. Лосей, волков и лисиц ловили преимущественно в окрестностях Москвы, Петербурга и в Новгородской, Смоленской и Казанской губерниях. Особенно проблематично было доставить пойманных зверей из Сибири, не поморив их в дороге.
Фактически в этот период в царской России была организована разветвленная служба по отлову и доставке животных в охотничьи зверинцы – прообраз «Зоообъединения» Главохоты РСФСР, существовавшего в советское время. В зверинцы беспрепятственно (!) завозили, содержали и разводили здесь множество видов диких животных, включая доставленных из-за рубежа американских и индийских оленей и ланей.
При императорах Павле I и Александре I, не интересовавшихся охотой, зверовые, сокольничьи и псовые охоты пришли в упадок, а немногие сохранившиеся зверинцы и зверовые дворы опустели.
Император Николай I, напротив, был страстным охотником. Он, как пишет Н. И. Кутепов, «не любил охоты на вольного зверя – на волков, медведей или лосей, сопряженных с опасностью и требующих дальних поездок, но он очень любил охоту на оленей, отчасти также на мелкую дичь – зайцев, фазанов, куропаток. Живя в Гатчине в осенние месяцы, он, большей частью в октябре, охотился на оленей в Гатчинском зверинце». Здесь же и в Петергофском зверинце устраивали охоты для высочайших иностранных особ. Не обходилось и без курьезов, которые случаются и в наши дни. Прусский принц, например, на одной из охот застрелил ручного медведя, позволявшего кормить себя сахаром и гладить. Частые охоты на оленей приводили к быстрому сокращению поголовья. Для его пополнения в Петергофском зверинце в 1829 г., например, было куплено сто оленей, видимо, северных, у крестьянина холмогорского уезда. Охота проводилась и в зверинце петергофского Английского сада, где в 1834 г. содержали до 42 косуль и несколько оленей и лошаков. Эта зверовая охота просуществовала до 1846 г. Позади Английского сада был устроен ремиз, где охотились на выпущенных из капитально оборудованных садков фазанов, серых куропаток и зайцев. Последних сотнями отлавливали в Валдайском уезде Новгородской области, а фазанов и их яйца выписывали из-за границы, поскольку все усилия по разведению и акклиматизации этих птиц на месте были безуспешными. В 1835 г. около Петергофской охотничьей слободы был выстроен Зверовой двор, где содержали хищников: медведей, волков и лисиц, которые иногда сбегали отсюда на волю.
Для нас представляет интерес также устройство и поучительная судьба Охотничьей (Егерской) слободы в Петергофе. Она имела весьма благоустроенный вид. «Улица была шоссирована, перед домами были сделаны тротуары из камня. В ряд стояли 22 небольших чистеньких дома, деревянных (на каменном фундаменте), окрашенных перловой масляной краской, с белыми балкончиками и белыми карнизами. Каждый дом предназначался для двух семейств служителей и разделялся на две самостоятельные половины с отдельными ходами; офицерским чинам каждому отводился особый дом, такой же постройки. При домах устроены были флигели для хозяйственных служб. Для холостых служителей выстроена была казарма». Вскоре, кроме этих построек, пришлось возвести небольшой дом для обер-егермейстера, две бани (одну для людей, другую для мытья собак), сарай для хранения мяса для собак, земляной вал с канавой. «Чинам охоты ввиду их скудного вознаграждения отведены были земли под огороды и особый луг под пастбище для их скота». Спустя 10 лет, однако, все дома потребовали капитального ремонта, поскольку были построены непрочно из сырого леса, не обшиты тесом, углы и полы начали гнить, в крышах обнаружились течи, оконные рамы от ветхости вываливались. В таком же печальном состоянии оказались и все хозяйственные постройки слободы: имущество и фураж гнили от сырости. Не лучше выглядели и заборы зверинца и ремиза: едва держались на подпорках. Опасались, что они упадут от сильного порыва ветра, и все звери разбегутся. На починку строений и забора в 1852–1856 гг. было отпущено казной 18000 рублей. Однако это не спасло Егерскую слободу и зверинец от окончательно разрушения – императорскую охоту пришлось перевести в Гатчину.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу