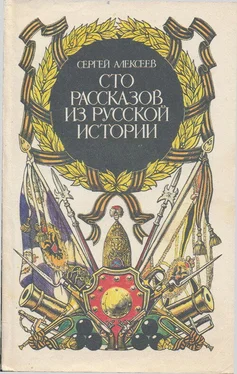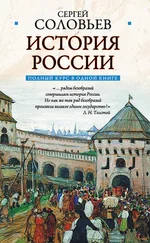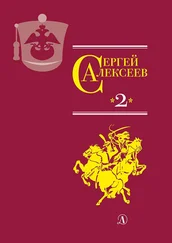Да это же казацкий храп!
Приблизился Степан Тимофеевич к спящему. Левку признал в нерадивом. Казак сидел на земле. Прислонился к сосне спиною. Что-то приятное снилось Левке. Он улыбался. Голова чуть склонилась на дуло пищали. Шапка сползла на лоб.
Стал заниматься рассвет. Спит беззаботно красавец Левка. Храпит на весь берег. Не чует нависшей над ним беды.
— Эка же черт безносый! — обозлился Степан Тимофеевич. Хотел разбудить казака. Потом передумал. Взяло озорство атамана. Решил он вынуть из Левкиных рук пищаль. Интересно, что Левка, проснувшись, скажет!
Легонько притронулся Степан Тимофеевич к дулу. Только потянул на себя пищаль, как тут же казак очнулся. Мигом вскочил на ноги. Разин и слова сказать не успел, как размахнулся казак пищалью. Оглушил прикладом Разина. Свалился Степан Тимофеевич с ног.
Пришиб казак человека и только после этого посмотрел, кто же под руку ему попался.
Глянул — батюшки светы! Потемнело в глазах у Левки.
Бросился Левка к Разину.
— Отец-атаман, — тормошит. — Отец-атаман! Боже, да как же оно случилось?
Не приходит в себя Степан Тимофеевич. Удар у Левки пудовый.
Помчался Левка с откоса к Волге, шапкой воды зачерпнул. Вернулся. Бежит, спотыкаясь. Склонился над Разиным. Протирает виски и лоб.
Очнулся Степан Тимофеевич. Шатаясь, с земли поднялся.
В тот же день атаманы решали судьбу казака. По всем статьям за сон в дозоре полагалась ему перекладина. Однако Разин взял казака под защиту.
— Для первого раза довольно с него плетей.
— Почему же, отец-атаман?!
— За то, что пищаль удержал в руках, достоин казак смягчения.
— Да он ведь чуть не порушил твою атаманскую жизнь.
— Так не порушил. Помиловал, — усмехнулся Степан Тимофеевич, проведя рукой по темени: там шишка была с кулак.
Однако неделю спустя, когда заснул в дозоре другой казак, Разин первым сказал:
— На виселицу!
Строг был Степан Тимофеевич. Ой как строг! Умел миловать, умел и карать.
Не был Разин святым. Мог и сам выпить. Однако приходил в страшный гнев, когда люди перепивались.
А такое случалось.
Особенно падок на вино был казак Гавриил Копейка.
Встретил Степан Тимофеевич однажды Копейку. Разило от казака спиртным, словно из винной бочки.
Почуял Степан Тимофеевич запах.
— Пьян?!
— Никак нет, отец-атаман! — нагло ответил Копейка.
А вранья Разин и вовсе терпеть не мог.
Встретил Степан Тимофеевич казака второй раз. Еле стоит на ногах Копейка. Глаза мутные-мутные. Осоловело на Разина смотрит.
— Пьян?!
— Никак нет, отец-атаман! И не нюхал.
Не тронул Разин и на этот раз казака. Но пригрозил расправой.
Не помогло.
И вот как-то казак до того напился, что уже и идти не мог.
Полз Копейка на четвереньках. Полз и наткнулся на Разина.
— Ирод! Ты снова пьян?!
— Ни-ни-как нет, о-о-тец-ата-та-ман. — Язык у казака заплетался. — Я-я ки-ки-сет обронил в тра-тра-ве.
— Ах, ирод! Ах, тараруй! [2] Тараруй — враль, лжец, болтун.
— обозлился Степан Тимофеевич страшно. — Эй, казаки, плетей!
При слове «плетей» хмель из Копейки будто выдуло ветром. Повалился он Разину в ноги.
— Прости, атаман.
— Умеешь пить, умей и похмелье принять, — сурово ответил Разин.
Когда притащили лавку и плети, Степан Тимофеевич скомандовал:
— Десять ударов!
Всыпали.
— А теперь еще сорок!
— За что же, отец-атаман?
— За вранье, за тараруйство, — ответил Разин.
Не любил Степан Тимофеевич врунов. Ложь самым великим грехом считал.
Казак Ксенофонт Горшок втерся к Разину в доверие. Началось все незаметно, по мелочам. То прочистит Горшок атаману трубку, то пыль из кафтана выбьет, то подведет под уздцы коня. Понадобится что-то Разину — Горшок тут как тут. Даже в баню ходил со Степаном Тимофеевичем, тер атаманскую спину.
— Средство мое надежное, — говорил казакам Горшок. — Я своего добьюсь. Я первой особой при отце-атамане стану.
И правда. Не заметил Разин и сам того, как стал при нем Горшок человеком незаменимым, во всех делах чуть ли не первым советчиком. Но самое страшное — стал Горшок шептуном. Трет он в бане атаманскую спину, а сам:
— Отец-атаман, а сотник Тарас Незлобии выпил вчера лишку вина и словом недобрым тебя помянул.
Наговорил на Тараса Горшок. Вот что сказал Незлобии: «Зазря отец-атаман дал Ксенофонту большую волю».
Прочищает Горшок атаманскую трубку, а сам:
— Отец-атаман, а башкирец Амирка тоже дурное о твоей атаманской особе молвил.
Читать дальше