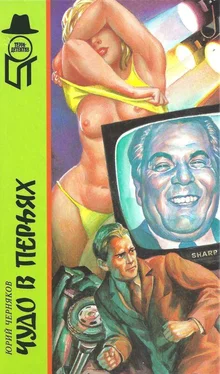У отца Никодима в, окне горел свет. Я подъехал поближе на своей замызганной «четверке», от которой шел пар из радиатора, и поставил ее нос к носу с «Москвичом» святого отца. «Вот так и будем с ним сидеть до утра», — подумал я, глядя на машины.
Пичугин вышел на крыльцо. Длинная белая рубаха, небольшой крест на груди. Внимательно посмотрел, ничего не сказал, только отступил на шаг в сторону, приложил палец к губам. У его преподобия дама?
— Благослови, святой отец! — Я шутовски склонил голову.
Он снова приложил палец к губам, только теперь к моим.
— Они спят, — сказал он. — Потише.
Я вошел вслед за ним. Кто — они? На широкой постели спала женщина средних лет, к которой прижались двое детей. В широкой печи потрескивал огонь.
— Ты ждал меня? — шепотом спросил я.
Он кивнул, показал глазами на дверь. Там была небольшая горенка, одной из стен которой служила печь. И потому было даже жарко.
Я скинул куртку, прижал руки к горячему беленому кирпичу.
— Приехал к тебе каяться. Или исповедоваться. Сам не знаю. И просить совета.
Он кивнул. Указал мне на табурет. Только после этого сел сам напротив. Достал бутылку водки из тумбочки.
— Ого! — сказал я. — Потребляешь? Как же сан? Раньше, помнится, ни капли. А тут запил?
— Это для тебя, — сказал отец Никодим. — Рюмку, не больше. Специально держу для таких, как ты. Чтобы свободно себя чувствовал.
Я выпил. Он убрал и бутылку и рюмку.
— А теперь меня выслушай, — негромко сказал он, подавшись лицом ко мне. — Я ждал тебя, Павел. Чтобы самому исповедаться.
— Ты? Исповедаться? Почему мне?
— Раз есть у тебя такая надобность, значит, сможешь меня понять. А когда выслушаешь меня, сам решишь: стоит ли мне рассказывать или нет. Гожусь ли тебе в исповедники? Впрочем, это я сам еще не решил…
— Так ты что, сначала сам перед всеми каешься, потом только выслушиваешь?
— С другими — я священник, чей сан сомнений не вызывает. У тебя, я вижу, не сомнения даже, а подозрения. И скажу сразу, что они правомерные.
— М-да… — сказал я. Тепло от выпитой водки растекалось по телу, расслабляя язык и мозги. Что-то не с того мы начинаем. — Валяй, — сказал я. — Выкладывай. Что у тебя на душе.
— Я уже говорил тебе, что учился в семинарии, — начал он, будто заранее подготовившись к своему рассказу. — Но меня оттуда выгнали.
— Это за что? — не понял я. — Согрешил, что ли?
— Напротив, — сказал он бесстрастно, как и начал. — Не позволил совершиться содомскому греху.
И перекрестился на икону, возле которой теплилась крохотная малиновая лампадка. Я только сейчас ее заметил и подумал: может, и мне перекреститься? Сейчас модно…
— К сожалению, этот грех был распространен среди семинаристов. Молодых они склоняли к гнусному сожительству, подступили и ко мне. Я не дался. При разбирательстве они поставили мне в вину, что я затеял драку. Это происходило ночью, когда все легли спать. До сих пор вспоминаю… Не знаю, откуда во мне взялась такая сила. Раскидал, растолкал, выскочил в коридор… Беда в том, что я узнал среди них одного нашего молодого преподавателя. Его оставили за усердие и набожность в нашей семинарии. Ко мне он был особенно ласков. Часто старался оставаться наедине, гладил меня по рукам и по щекам, говорил, что они у меня как у девушки. Я не мог отказаться, когда он вызывал меня к себе. У нас была прекрасная библиотека. Я впервые заметил именно там, как во время разбора текста отец Никодим…
— Так он твой тезка? — полюбопытствовал я.
— Имей терпение, скоро все узнаешь. Так вот, я обратил внимание, как он во время разбора священных текстов с отстающим учащимся из нашего курса тискал его под столом и прижимался, отчего тот оробел и беспомощно смотрел по сторонам, не в силах возмутиться или оттолкнуть… Отец Никодим был превосходным богословом и полемистом.
Я считался одним из лучших на курсе, и со мной он тоже занимался отдельно, поначалу не из низменных побуждений, а поскольку ему было интересно со мной спорить. Особенно много мы спорили с ним о запретном Евангелии от Филиппа, которое святая церковь не признала каноническим. Почему он не боялся, что я могу его выдать? Быть может, он видел мой интерес к запретному.
В том Евангелии есть слова: «Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое — братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие — не хороши, и плохие — не плохи, и жизнь — не жизнь, и смерть — не смерть. Поэтому каждый разорван в своей основе от начала…» Как видишь, я запомнил это наизусть. Так вот, спрашивал он меня, нельзя ли к этому добавить: зло и добро, грех и святость? Быть может, они точно так же не раздельны?
Читать дальше