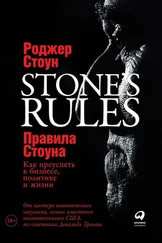— Не забывайте, что мы ищем доказательства того, что дети побывали здесь. Обувь или какие-нибудь другие предметы.
— Может, книги или игрушки. Маленькая плюшевая собачка, — добавил я.
Они продолжали поиски. Мы прочесали восемь комнат наверху. Ванная не работала, а пять спален пустовали. В остальных стояли незастеленные старомодные железные кровати с пружинными матрасами и умывальники с кувшинами. И опять, казалось, ничего здесь не изменилось со времен юности мадам. Наверное, все это осталось еще от поколения молодости родителей Марселя Сульта, где-то на стыке веков. Это чувство потерянного времени довлело над всем, как будто владельцы дома сдались, бросили все и ушли отсюда очень-очень давно.
В двух спальнях стояли шкафы, доверху набитые туалетами мадам Сульт: лисьими мехами и шляпами, шелковыми платьями для коктейлей и когда-то яркими халатами, и все они, как я понял, еще довоенных времен. Это был своеобразный музей воспоминаний, которые никто не тревожил годами, за исключением моли. От пыли мы расчихались и с облегчением решили вернуться на первый этаж, в то крыло, где все еще спала старая женщина. Мы прошли мимо ее комнаты и стали исследовать остальные, одну за одной. В самом конце коридора находилась кухня с высоким потолком, где я впервые почувствовал атмосферу упадка, ее наконец-то вымыли, и сейчас в ней стояли несколько кастрюль и сковородок, которыми недавно пользовались: пустая кастрюля с длинной ручкой для молока, кастрюля на плите с почти остывшим супом, грязные тарелки в мойке.
Эмма взяла грязную тарелку. На ее краях были остатки пищи, которые пахли мясом.
— Это что?
Женщина из деревни неохотно подошла к ней.
— Еда мадам.
— А это? — Элегантный пальчик Эммы указал на пищу на ободке тарелки. — Это похоже на детское пюре.
— Она ест, как ребенок. У мадам нет зубов. Мы готовим ей детскую пищу. Из мяса и картошки, и она ее немного сосет.
Остальные комнаты по обеим сторонам коридора выглядели так же убого. Некоторые были совершенно пусты, в остальных свален всякий хлам, чемоданы и ящики из прошлого — настоящая лавка старьевщика, и все это барахло полиция вытаскивала и разбрасывала по полу, в то время как мадам Шалендар пыталась слабо протестовать. И опять перед нами возникала история: сундучки для чая и различные коробочки, упакованные и завернутые в газеты, датированные 1945 годом.
— Почему она живет здесь? — спросил я.
— Мадам скрывается от людей.
— А что она делала до того, как заболела? — вступила в разговор Эмма.
— Она всегда была больной.
— Но не так же, как сейчас. Не всегда же в постели?
— Мадам давно ничего не делает. Она скорбит.
Комнаты Шалендаров находились на другой стороне: небольшая квартирка, в которой, по крайней мере, были какие-то признаки жизни: газеты и телевизор, дешевая, но современная мебель.
— Где ваш муж? — с вызовом произнес Ле Брев.
— Он поехал в деревню. Скоро вернется.
Когда он появился, люди Ле Брева взяли его под руки и привели в дом, как заключенного. Я сразу понял, что это не тот человек, что был в желтой маске. Он просто не мог быть им — невысокого роста крестьянин с простодушным лицом, в очках, с оттопыренными ушами, седыми волосами, лет за шестьдесят, весь какой-то поникший, как будто не в своем уме, и говорил он медленно и нерешительно.
Ле Брев накинулся на него:
— Не пытайтесь мне лгать. Кого вы приводили сюда?
Шалендар моргнул:
— Здесь никого не было.
— Не лгите мне! У нас есть доказательства.
Ле Брев гордо вышагивал по комнате, как петух. Шалендар тупо уставился на него:
— Не понимаю, месье.
— Не понимаешь, ты, идиот? Я посажу тебя под замок, пока не скажешь нам правды, — кричал Ле Брев. — Не играй со мной. Обувь детей. Две пары детской обуви. Мы знаем, что их видели здесь.
Выражение его круглого лица не изменилось:
— Не понимаю. Ваши полицейские стоят у ворот. Никто не приходил сюда.
Мы оставили Шалендаров одних, тупо уставившихся друг на друга, в тесной гостиной, где хоть тикали часы и порхала в клетке зеленая канарейка.
— Так, — сказал в конце концов Ле Брев. — Будем продолжать?
Он повернулся ко мне:
— Ну что, нет обуви? И психа с ножом тоже нет?
— Я видел и то, и другое.
— В таком состоянии всякое может померещиться… — он посмотрел на Эмму. — Что скажете, мадам?
Но я был не менее упрям, чем старый Шалендар.
— Послушайте, говорю вам, что я все это видел. Две пары обуви. Обувь моих детей.
Читать дальше
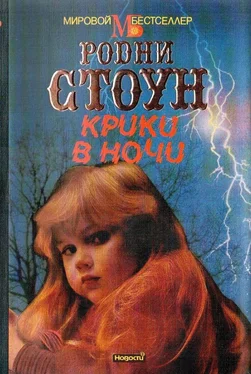







![Юрий Казаков - Долгие крики [северный дневник]](/books/432223/yurij-kazakov-dolgie-kriki-severnyj-dnevnik-thumb.webp)