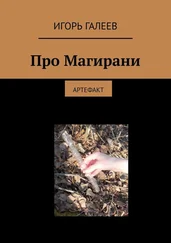Сергей Юрьевич от души улыбался.
– Точно так. Вот я – выпиваю, – Рясов понизил голос и виновато посмотрел на бутылку. – Привык я физически, не скрою, а узнай эти ведьмы – сживут, непременно сживут, как пить дать сживут! Вот и кончится мое счастье. Поздно мне новое искать. С чего ради жить буду? Приходится начеку быть, скрываться в строгой конспирации. Средство я одно знаю…
И он обстоятельно рассказал, как избавляется от запаха водки.
– А что, без нее совсем не можете? – спросил Вековой.
Не могу. Я ведь на войне пристрастился. Организм молодой, вот и привык за три года. Окопы, ветер, снег, страх, а спирту выпьешь – и не так тяжко. После войны многие без водки не могли. Спились многие, и я чуть было, но ничего, выкарабкался, научился потихоньку… Пробовал бросить – без толку, все равно что не спать, и вроде не алкоголик, не буяню, а выпить не то чтобы люблю, как средство для жизни принимаю. У меня даже сын не знает, что я… того… Прячусь. Война-то, видишь, куда корни пустила… этим я с ней и повязан.
Иван Павлович вздохнул и замолчал.
– Расскажите, – попросил Вековой.
– Грязь это, и вспоминать не люблю. Пацан я был. Семнадцать лет. Сначала страшно, невыносимо было. А потом ничего, привык, как положено. Но страх всю войну не покидал, чувства-то притупились, а душа все равно вздрагивала. У меня с войны запах остался – земля сырая, сапоги и картошка печеная, да ядреный пот примешивается или масло ружейное и порох сгоревший. Вся эта смесь и есть для меня война. Что там говорить, много хороших людей полегло. Аркадий Александрович считает, что войны вообще могло не быть. Видишь, как поворачивается… Не знаю… Про войну ребятам не рассказываю, слов гладких не нахожу. Желание тогда у многих было: все можно – хватай, бери, рви, пользуйся – война спишет. Трудно преодолеть это желание, ведь мысль всегда присутствовала: убьют не сегодня-завтра. А подвиги… подвиги – это грубое «надо». Наглость и жестокость всегда русского человека вынуждали подвигом расплатиться, до предела они довели, до предела разозлили. Возьмем город, выпьем – и плачу: и себя жаль, и мир, и детей, и человечество… Сколько жестокости» – и все ради чего – идей или вождей? Желают, видишь ли, счастья потомкам, а живых топчут; не понимаю я таких идей, не верю. И не могу я детям этого рассказать. Я им все больше о житье-бытье, случаи интересные разные. Журналов специально понавыписывал. Да и предмет свой не люблю, понимаешь, дело военным не бывает… Рассказывать о войне – и произносится-то глупо, легкомысленно. Ты думаешь, мне легко учить убивать? Убивать как можно больше, когда хотят убить тебя? По мне – не учить этому вообще. Пусть они убьют нас, а мы их – нет. Все равно толку в лишней крови не будет. Только это никому не докажешь.
Рясов замолчал, задумался, машинально погладил маленькое яблоко, положил его на верстак, взглянул на часы:
– Без пяти двенадцать! Давай, Сережа! И не спрашивай ты меня больше, такой войны уже не будет.
По себе знаю – Иван Павлович такой человек, которому в дружеской беседе все расскажешь. Он может слушать подолгу, с родственным вниманием, ни разу не перебив; когда выговоришься, очень точно обобщит и осторожно, намеками, посоветует.
Незаметно для себя, спокойно и обстоятельно рассказал Вековой о происшествии в лаборантской, но о пощечине дипломатично умолчал, ему казалось, что этот суровый акт, вызванный секундным безумием, исказит истинные причины новогоднего буйства Натальи Аркадьевны.
О «теории» упомянул упрощенно, мол, рассказывал Наталье Аркадьевне, что человек, достигнув особой стадии духовного совершенства, обретает бессмертие и что форма жизни при этом становится совершенно иной, отличной от всех ныне существующих представлений о жизни, мол, к таким убеждениям пришел года три назад и не считает себя сумасшедшим, зная при этом, что настоящие сумасшедшие так же не считают себя таковыми, и, естественно, если принять «теорию» и пытаться действовать соответственно ей, то жить по-прежнему будет никак нельзя, и, по-видимому, долго думая о своей жизни, изнуряя себя муками проникновения в сущность идеи, Наталья Аркадьевна за короткий срок довела себя до болезненного смятения и, не выдержав напряжения, неожиданно для себя самой, безрассудно сорвалась; что же касается любви, то она делает всю эту историю еще более печальной и безвыходной; и если думать о положении несчастной Натальи Аркадьевны, то хоть вой, хоть беги, а помочь совсем нельзя, и остается запоздало проклинать себя за невнимание и слоновость, в ожидании последствий для обоих.
Читать дальше