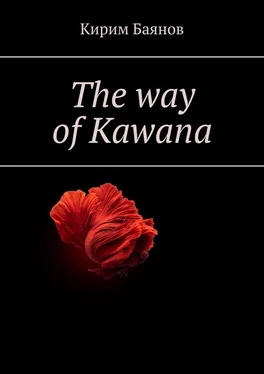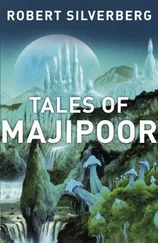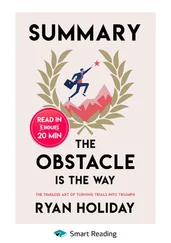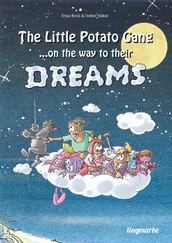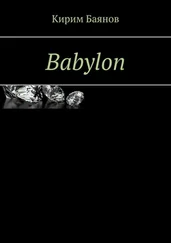Старый город ждет вместе со мной. Пустой, раскрашенный тенью, зеленым огнем и безлюдным депо. Падают листья. Живет тоннель. В темноте гаснут огни. И снова несут меня прочь. В расцвеченный витринами, суетливый и полный жизнью мир. Центр, – гулкий и людный, полный света и цветных реклам, падает на меня, и я думаю, что старый город остался со мной. В нем никогда не утихает ропот, текут мостовые и мерцает раешник дикой листвы. Он здесь, со мной, хоть и незаметен. Тут, хоть и далек. Со мной, хоть и остался в депо. Он во мне, хоть и полон тоски. Хмурый и тяжелый, липкий и сладкий от хурмы, напоенный виноградной лозой. С тутнью и блеском луж, шапками акаций и диких софор. Только в пустых улицах и редком шорохе шин, но столь близкой мне тишине. В моей памяти, пустившей корни в покой. В сиянии фонарей. Пустом шорохе, затекающем в щербинки растресканных мостовых, забытых редутах и бастионе, в липкой роскоши улиц. В его дожде. И я пробую на вкус шумливое, снующее шоссе, покидая его. Думаю, о весне, пустых, ненужных делах и куче мелочей. Они преследуют меня, но сегодня они на миг отступили. Я был там, я помню. Субботний вечер и шепот огней все еще здесь. Он окутывает меня своим языком терпкой сладости, мягкой зелени и сочных крон. Сонливо. Я еду, раскачиваясь в креслах, чтобы снова вернуться домой, но они там, откуда я отбыл, там, откуда я уезжаю, – в этом пустом и тихом месте старого, мертвого города. В его мшистых аллеях и зеленых огнях.
Проплывают улицы, жеманно падает свет, в пустых кварталах плавает барабанящий дождь, и кажется, что в их глубине вновь слышен ропот уставших людей, старого Дна. И мне кажется, что я не покидал его, и никуда не уезжал. Я пью кофе. На лоджии плавает дым. Вдыхая отравленный воздух, гляжу на вымершую под утро улицу. В рядах авто мерцают светлячки противоугонных огней, холод блуждает по воздуху, заглядывая в мое окно. Немеют пальцы. И я думаю, что остаюсь, а она… sure is working for the KGB.
Пустая тутнь в потемневшем окне напротив, в тихом шорохе и на плюсне мостовых. Темная мга никелированных фонарей, слепо мечущих пульс на кривые дорожки и деревца слив. Голые яблони и миндаль. Шоколад в ажур де крюи. Грильяж на столе. Пустая гичь за окном, в глубокое дыхание ночи пульс трассирующего метро. В этих звуках тоже есть паутина ломких эвфем. Она не умирает в них. Она в них давно. Стелются облака на горизонте, горит в окнах свет. И только пустая зыбь листвы опускается в сон, как вновь брезжит рассвет. Мегаполис не спит. Он только делает вид.
И я пью золотое кофе, и смотрю на встающие с улиц сумерки. Старый город все еще жив. Он жил в сердцах людей очень долго, чтобы враз пропасть, погаснуть, как только забрезжит солнце.
Старый город. Он полон дорог.
Густые, рыжие волосы ее слегка вьются. Когда она, стоя над столом, пригибается, перебирая бланки и переворачивает листы, смотрит журналы, они закрывают уши, ложатся на плечи, занавешивают ее щёки.
В задумчивости она ожидает своего клиента. Когда он приходит, она вздрагивает, глядя ему в глаза, и расцветает, спархивает со стула и выпрямляется; соглашаясь со всем, кротко и тепло улыбается.
Ее лицо белое треугольное приобретает розоватый оттенок, и она оправляет халат. Ее монгольские глаза, – карие и блестящие, – немного слезятся. А щеки покрываются ямочками.
В ее имени нет ничего монгольского, но есть прибалтийский акцент. Она совсем не побита жизнью и в ней нет той покорности, которая присуща людям с такой же улыбкой и такой же привычкой.
Есть что-то другое. То чему я не нахожу слов, названия. То чего я давно так не видел и что я забыл.
Когда я сажусь на кресло и отдаю в ее руки свои волосы, то чувствую, как она дотрагивается своими маленькими, тонкими ладошками, обертывая шелестящей бумагой шею, касается моих ушей, волос, – они тяжелеют от воды и ложатся под ножницы, на расческу, скользят по накидке вниз.
Я закрываю глаза, чтобы уберечь их, но думаю совсем об ином. О чём-то беспредметном, бессвязном, большом, громадном. О том, что течёт, словно мыльная пена по моему затылку, вискам и шее. Будто бы вспоминая давным-давно забытое, то чего не было с мной уже много лет. Открываю глаза и вижу перед собой согнутые в локтях тонкие, белые руки. Марта ровняет чёлку. Её проворная соседка успевает за это время обслужить двух-трёх клиентов, три-четыре раза выдвинуть ящик стола и убрать туда ножницы, пересчитав деньги и проверив на всякий случай сумму. А для Марты не существует времени и ящика. Для неё существует что-то совершенно иное.
Читать дальше