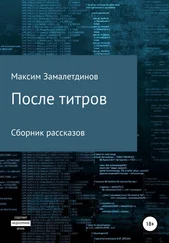Несмотря на эти послеурочные занятия, успехов в учёбе у меня не прибавилось. Всё равно я с огромным трудом читала и писала. Арифметика вообще была где-то за границами моего понимания. Прошло время и она начала злиться. Она стала обзывать меня и нарочно выдергивала меня к доске, изначально понимая, что я не смогу ответить. Ну не могла я ответить, хоть и сильно пыталась какое-то время. Заставляла меня краснеть перед всем классом, хотела, чтобы я почувствовала себя ущербной. Но я никогда не сомневалась, что именно такой я и была. Может, и не ущербной, но совершенно отличной от каждого из них, и от неё в частности.
Она систематически гнобила меня моей недоразвитостью и тугоумием. А потом настал день, когда я сорвалась. Я видела, как она схватила указку с доски и два маленьких кусочка мела покатились по полу, словно игральные камни. Как она прошествовала по проходу, грохоча каблуками (в туфлях с шнурками на манер шестидесятых), с раскрасневшимися от злости щеками и дикими пылающими глазами. Но она не могла причинить мне боль. Неужели она этого не понимала? Мне казалось, понимала. Я смеялась над ней, пока не заболел живот, когда она дубасила указкой, непонимающего ничего мальчугана прикрывающего свою голову руками. Он вырывался и кричал, но она уже тогда была довольно крупной женщиной, и он просто не мог сопротивляться давлению, с которым та прижимала его к стулу. И всё равно он пытался дать ей отпор, но она не сдавалась. Я же, наблюдая за разворачивающейся сценой, с упоением думала про себя, что Галина Николаевна, эта жирная тварь, навсегда запомнит тот день, когда решила поднять на меня руку. Поднять руку на ребёнка. И ведь эта сука действительно думала, что бьет меня. Понимаете? И это непонимание произвело ещё большее впечатление на неё, когда она, выплеснув свой гнев, увидела, что сжимает не мою руку, а руку ни в чём не повинного заплаканного мальчишки. Не помню даже его имени, но всегда мысленно извиняюсь перед ним, когда вспоминаю тот момент.
Этот её взгляд, расширенные в кои то веки глаза и хлопающие от изумления ресницы, когда туман ушёл из её головы. Мне кажется, в какой-то момент, она даже хотела повторить взбучку, но запал уже угас, особенно тогда, когда она увидела, как тот мальчонка, вырвавшись из её жесткой хватки, от пережитого ужаса прыгнул под парту, прячась от неё и заблевал там всё.
Записка 6. Моя месть.
Я знала, что она любит поесть. Пока что она была ещё относительно молодой и вполне миловидной и умела держать себя в руках, не позволяя себе кушать слишком много. Но я знала, она прячет себе в стол еду, пока никто не видит, (я вообще много чего о ней знала), и всё время до наступления обеденного перерыва думает о ней. Я помогла ей разрушить этот барьер. И в следующий раз, когда Галина Николаевна вновь заставила меня подняться (ни без искреннего чувства страха на лице) со своего места, я зашла в туман и приказала ей есть.
Двадцать три ребёнка, в основном одетые по бедному и непричёсанные смотрели на неё, выпучив от изумления глаза и пооткрывав рты. Как она не глядя, (потому что идиотка пялилась на меня), потянулась пальцами к ящику стола. Как нащупав ручку, вытащила большой свёрток в пакете. Ноги её не слушались, когда она попыталась дойти до стула, (который она сама же отодвинула к окну), но не дошла. Сделала пару неуверенных шагов, а потом вероятно, отчаялась и уселась прямо на пол. Села, а когда посмотрела на то, что лежит перед ней, разорвала пакет и фольгу, впиваясь пальцами в жирную тушку утки, что запекла в духовке накануне. Пихала в рот оторванные куски мяса и глотала их, не прожёвывая. Жир испачкал ей лицо аж до самых ушей. Жир стекал по её ладоням и пачкал рукава её рабочего платья, которое она потом так и не смогла отстирать. На неё напал дикий жор и если бы, не дай Бог, кто-нибудь из детей прервал её насыщение, она убила бы его без промедления.
Только я, пожалуй, и знаю, каких усилий стоило этой бедной моей преподоватильнице, не выходить во двор своего огорода и не смотреть на бегающих в загоне крякающих птиц. Она привычно усаживалась дома в своё пружинистое кресло, сложив руки на коленях, и чуть покачиваясь, пыталась отвлечься на любимую книгу Маргарет Митчелл, подаренную ей когда-то другом по университету (любовь, которая так и не состоялась), а за домом громко гоготали утки, нарушая её душевный покой.
Но вчерашним вечером всё изменилось. Не прошло и получаса, как она разъяренно кинула книгу на пол. Та упала шелестя зачитанными грязными страницами. Спрыгнула с места, словно под её, пока ещё умеренных размеров задницей развели костёр, и начала нарезать круги по комнате, не в силах смириться с терзающей её слабостью. Обычно в хождении по дому и бесконечному тереблению потных рук, которые к утру становились ещё и красными, проходила ночь. И всё равно, я знаю, в те минуты, что прошли в дороге от её дома до школы, она была счастлива, потому как думала, что сегодняшней ночью победила меня – маленькую необычную девочку, неспособную усвоить предложенный ею материал, из-за скудности детского ума. Счастлива, потому что не ощущала веса аппетитно зажаренной утки в своей сумке набитой книгами. А потом начался урок, и она с довольным от трепещущего ощущения сладкой мести, которая вот-вот должна состояться, назвала мою фамилию и тут же потянулась рукой к сумке. Её самодовольная улыбка стёрлась с лица лишь тогда, когда зубы вгрызлись в хрустящую зажаренную утиную плоть.
Читать дальше