Пойдем отсюда, сказал я ей, когда песня закончилась. Не знал точно, что должен думать и куда должен пойти. Представлял множество вариантов, не веря, на самом-то деле, ни в один из них.
(Я снова поглядел на Каролину, которая как раз приходила в себя от танца как от долгого сна и осматривалась в поисках пива; я подумал, что ни она, ни я не имеем ни одной причины, чтобы сказать друг другу хотя бы пару слов)
– Ну ладно, – Дарья улыбнулась еще шире и пошла за мной к выходу, и мы встали во дворе, который успел, пока нас не было, наполниться людьми.
Кафель, одетый в черные «флаерсы» и штаны ленары [12] Фирменные штаны польского производителя и спортсмена Р. Ленара; отличаются свободным покроем и низким карманом; первые фирменные польские штаны, имевшие успех в стране.
, продолжал поплевывать вокруг себя и ощупывать бритую голову. То и дело вытирал нос. Кто-то позвал его, и тогда Кафель, вообще не глядя в ту сторону, забоксировал в воздухе.
Это было минуту назад, а сейчас – сейчас. Мы во дворе, я и Дарья, в паре метров друг от друга. Я протягиваю ей руку, словно собираясь помочь перепрыгнуть через лужу.
(Уголком глаза вижу как к Трупаку и Былю подходят мои приятели. Квадрат, который уедет в Гданьск и станет барменом, но сперва его арестуют на десять месяцев за печатанье банкнот на домашнем принтере; Марас, которого через несколько месяцев убьет его собственный отец, приняв в делирии за грабителя и пырнув ножом в живот; Флегма, чья строительная фирма поставит половину девелоперских домов в Ольштыне, хотя сейчас может показаться, что он и кирпич не сумел бы поднять.)
– Ну, Дарья, пошли, пошли со мной, – говорю я, и потом кто-то из нас начинает смеяться, а кто-то еще, кто-то постарше, говорит Дарье: «Ну, иди с ним, гляди, как парню охота, иди с ним».
– Олька! Олька, сука! – голос Кафеля звенит рядом со мной в тот миг, когда его девушка появляется в воротах замка, будто бледный призрак; Кафель идет в ее сторону, быстро, в несколько шагов преодолевает половину двора.
Олька вошла – собственно, ее словно что-то принесло, как брошенный ветром бумажный пакет. Она была такой бледной, такой сухой и тонкой, что черные локоны на маленькой головке казались самой тяжелой частью ее тела.
– Ты где, нахуй, была? Где ты, сука, была? Я тебя, сука, жду, ищу тебя по кабакам, а ты что, нахер, устроила? Что ты, нахер, устроила?! – громко спрашивает Ольку Кафель.
– Да ебись ты конем, уебок несчастный, – отвечает ему Олька.
И так-то они разговаривают, и никто уже не смотрит на нас, потому что все смотрят на Кафеля и Ольку и ждут, когда начнется, когда один ударит или толкнет другую и когда придется оттягивать Кафеля от Ольки, чтобы тот не схватил ее за волосы и не принялся лупить головой о ближайшую плоскую вертикальную поверхность – что он, как говорят, уже когда-то делал. Только когда мы уже выходим из замка, сквозь узкую и короткую горловину ворот, когда музыка остается позади нас, приглушенная и стихшая, Дарья задает вопрос, на который у меня нет ответа:
– А вообще, куда ты хочешь пойти?
– К Психозу? – отвечаю я миг спустя.
– Ну, можно, – говорит она после короткого раздумья.
Когда выходишь со двора замка, а потом, сразу за стеной, поворачиваешь направо, вглубь окружающего замок парка, то через пару минут доходишь до небольшой поляны с высоким, метра в три, каменным памятником на постаменте в серой штукатурке, с несколькими лавками, поставленными полукругом подле него. На постаменте памятника, на таблице, видна большая, нанесенная черным спреем надпись: ПСИХОЗ. Надпись эта исчезнет через несколько лет, кто-то в конце концов выведет ее химией для смывки граффити, чтобы открыть спрятанную под ней табличку с названием. Но сейчас надпись еще есть, большая, черная, кривая и косая, нанесенная рукой, для которой писание чего-либо было довольно редким приключением. Психоз еще жив.
– Там может кто-то быть, – говорю я.
– И что с того? – отвечает она.
– Ну ладно, – киваю я.
– Так кто кого туда ведет? – спрашивает она и улыбается.
Надпись сделал некий Гизмо, парень, который так торчал, что торч и вообще стал главным его состоянием. Я едва его знал.
(Гизмо, который потом закончит всю эту историю жутким образом. Я на него не в обиде. Сложно обижаться на него, Гизмо нет и уже никогда не будет.)
Трупак знал его лучше и утверждал, что первый косяк он раскурил именно с Гизмо. И что якобы Гизмо однажды просто подошел к памятнику и его окрестил, среди бела дня, без слов и лишних споров, на глазах сидящих там и попивающих пиво людей. Написал, что хотел, и пошел домой. Никто никогда не узнал, что Гизмо имел в виду: хотел ли передать свое духосостояние или просто намалевал первое слово, пришедшее в голову. С того времени ходили не к памятнику, а к Психозу.
Читать дальше



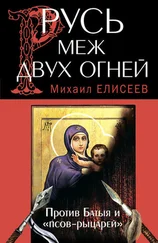




![Якуб Жульчик - Холм псов [litres]](/books/432257/yakub-zhulchik-holm-psov-litres-thumb.webp)



