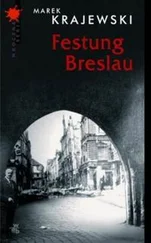— Ладно, продолжай, — сказал он.
— После снятия отпечатков пальцев ты был моим… Но я до сих пор не знал, как тебя использовать. Когда миссия Утермёля закончилась неудачей, а он сам исчез, я принял во внимание различные решения. И вдруг я вспомнил жалобу Ошеваллы на тебя, которая ранее по ошибке попала на мой стол. Когда я читал этот документ в то время, я почти чувствовал твою ярость, которую ты обрушил на тюремного цербера. Однако ты был зол не на охранника, а на заключенных Дзялласа и Шмидтке за то, что они унизили Прессла. Верно? Ты бы хотел убить их тогда?
— Да, я бы убил их. И того и другого. Без колебаний, — машинально ответил Мок, к удивлению Вирта, который обычно в такой ситуации слышал из его уст: «Кто тут вопросы задает!»
— Мне пришла в голову замечательная идея. — Мюльхауз тяжело дышал и не смотрел в сторону края крыши. — Я решил сам внедриться в мизантропов. Сам проникнуть в их ряды. Для этого мне нужен был ты. Так выглядел мой план. Я посажу тебя в тюрьму, в камеру Дзялласа и Шмидтке… А теперь пообещай мне, что ты будешь контролировать свои нервы и не убьешь меня, не сбросишь с этой проклятой крыши… Обещай, если хочешь знать все!
— Обещаю, — пробормотал Мок.
— Я знал, что как бывший полицейский будешь подвержен гневу заключенных, — криминальный советник говорил тихо и отодвинулся от Мока на столько, на сколько позволил ему Цупица, который поставил перед ним ногу, явно отметив, что здесь есть предел для свободы движения. — Я знал, что они захотят сделать из тебя раба, как из Прессла. И здесь было два возможности. Первая. Мок будет опозорен… Обещай, что ничего со мной не сделаешь!
— Обещаю, обещаю, — небрежно сказал Мок и постарался неискренней усмешкой разжать стиснутые челюсти.
— Первая возможность. Злая и малоправдоподобная, — быстро проговорил Мюльхауз, — опозоренный Мок совершает в тюрьме самоубийство. Я бы довел это до самоубийства. Довести кого-то до самоубийства — это один из методов инициации. Я мог бы добраться до мизантропов, доказав, что я заставил тебя покончить с собой… Подожди, Мок, почему ты даешь ему знак? Подожди, дай мне закончить, я знал…
Остальные слова погибли в хрипении. Цупица, которому Мок дал соответствующий знак, прижал горло Мюльхауза железным прутом. Надвахмистру показалось, что все вокруг затихло, он сам оказался в центре вращающейся фотопластинки. Каждая из освещенных клеток изображала Конрада Дзялласа, который стоял на широко расставленных ногах, сжимал в руках свои гениталии и медленно произносил слова: «Ну что, тебе это нравится, толстая свинья? Ты будешь лизать меня, жирная свинья?» Вдруг до ноздрей Мока донеслось зловоние. Это был запах экскрементов, который бил от немытого тела Прессла и от неподвижного Дзялласа, который лежал поперек койки с вывернутым на спину лицом. Фотопластинка кружилась. В кадрах появился разгневанный сапожник из Вальденбурга Виллибальд Мок, который грозил сыну пальцем, улыбалась любимая когда-то Эрика Кизевальтер, потом выпустил дым из непременной сигары судебный медик Зигфрид Лазариус и подставил ему под нос вырванные зубы, а в конце запищал жалобно маленький ребенок, который когда-то через Мока потерял мать. Фотопластинка кружился вокруг головы Мока. В одной из клеток разгневанный Мюльхауз постукивал трубкой по крышке своего стола. Стучала трубка криминального советника, стучала его голова о крышу театра Лобе, стучал молоток Виллибальда, стучал лоб Мюльхауза. Цупица тяжело дышал и стоял над криминальным советником, давя прутом его кадык. Он выжимал ему глаза из глазниц и заставлял дрожать его худые ноги.
— Отпусти его! — крикнул Мок. — Хватит!
Мюльхауз завизжал, Мок закурил, Цупица сопел, а Вирт окутался пламенем. Город внизу двигался автомобилями и трамваями. Мужчины прятались по притонам, женщины выставляли свои тела в воротах и под фонарями. Это были надежные указатели, ориентиры, ярко освещенные ворота в инферно, в мягкие и влажные сифилитические края. Столбы с объявлениями предлагали развлечения. Они предвещали вечный крестовый поход против скуки. Город был хитрым, коварным и утомленным.
Прошло четверть часа. Почти задушенный криминальный советник возвращался из мира мертвых. Моку вдруг стало жаль. Он чувствовал себя никому не нужным предметом, как шахматная пешка, уничтожение которой является условием неизвестного великолепного гамбита.
— Если бы я покончил с собой после позора, ты бы присоединился к мизантропам, — сказал Мок Мюльхаузу, который извергал изо рта густую слюну. — А потом медленно бы уничтожил их. Как член группы, ты бы знал все об их преступлениях. Они бы тебя с ними познакомили. Они должны были сделать это в соответствии со своим уставом. Каждый знает все о каждом. А тогда они спросили бы тебя о твоем убийстве. И когда ты сказал бы о позоре в тюрьме Мока, ты не испытывал бы угрызений совести за то, что убил меня? Что перед смертью меня унизили? Правда? Скажи это, прошу, скажи, что Мок — никто, что у тебя потом были бы такие же угрызения совести, как после убийства комара!
Читать дальше
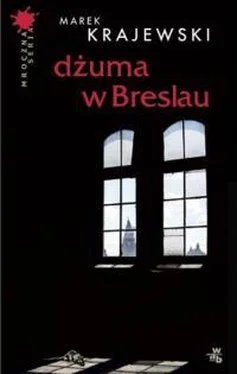

![Марек Краевский - Реки Гадеса[(неполный перевод)]](/books/136670/marek-kraevskij-reki-gadesa-nepolnyj-perevod-thumb.webp)



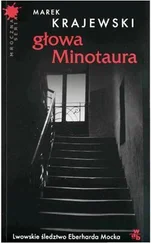
![Марек Краевский - Конец света в Бреслау [любительский перевод]](/books/394995/marek-kraevskij-konec-sveta-v-breslau-lyubitelski-thumb.webp)
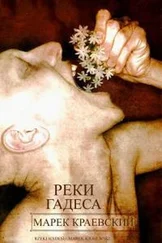


![Марек Краевский - В пучине тьмы [фрагмент]](/books/433348/marek-kraevskij-v-puchine-tmy-fragment-thumb.webp)