Честно признаюсь, эта Маргарет, переносившая боль без стенаний, весело, чуть ли не с радостью, чертовски меня раздражала. Сама-то я ныла, ругалась, а проводившую процедуры коренастую женщину с бульдожьим лицом костерила последними словами. Отвратительно я к ней относилась, но когда осознала это и захотела попросить прощения, она уже отбыла из приората к новому месту послушания. Да и по отношению к Маргарет я вела себя не лучше. По ночам она имела обыкновение молиться, а я всячески насмехалась над ее молитвами и, как и подобало доморощенной атеистке, пыталась сокрушить ее веру цитатами из Ницше. Христианская вера изначально зиждется на самоотречении, на отказе от свободы, гордыни, самолюбования, но другой стороной этого является столь же решительный отказ от порабощения, самоуничижения и тому подобного. Но странное дело: слова блестящего философа девятнадцатого столетия, сифилитика, принадлежавшего к среднему классу, не оказывали никакого воздействия на девушку, найденную на помойке. Она смотрела на меня с искренним состраданием, как на больную, и, я сама слышала, порой поминала меня в своих молитвах. Мне убить ее хотелось! Я всех убила бы за их добро и благочестие, будь у меня такая возможность.
В бессилии я исходила злобой и сарказмом, каковой есть последнее прибежище бессильного, и лелеяла презрение к сестрам. Почти все они, кроме доктора Маккаллистер, были калеками, с теми или иными физическими недостатками, спасенными в клоаках третьего мира и намеревавшимися отправиться в такие же ужасные места, чтобы принять там смерть за Иисуса. С моей точки зрения, это было сумасшествие в чистом виде, о чем я и заявляла во всеуслышание. Мне потребовалось почти два месяца для исцеления и возможности двигаться без боли. Меня брали на все более длительные прогулки, на первых порах по лазарету, потом в трапезную, потом по территории. Приорат состоял из четырех трехэтажных зданий местного серого камня, со всех сторон замыкавших квадратный внутренний двор. В середине квадрата стояла статуя женщины, державшей раненого человека, которая, как мне сказали, изображала святую Мари Анж де Бервилль, когда-то давно основавшую их орден. В двух зданиях размещались спальни, в третьем находились офисы и часовня, а в четвертом трапезная, лазарет и библиотека.
Общество относилось к литературе примерно так же, как Орни: основу их книжного собрания составляла литература религиозная и медицинская, а также пособия по сестринскому уходу, однако имелся и художественный раздел, сформированный из классики.
Я прочитала все романы, тем паче что с требованиями читать что-нибудь богословское ко мне никто не приставал. К тому времени я уже не носила больничный халат, а получила ту же одежду, что и все они, когда не исполняли сестринских обязанностей. В память о том, что Общество возникло во Франции, наряд назывался bleude travail, рабочий комбинезон, какие носят механики. Однажды, когда я, сидя в этом прикиде в комнате отдыха, читала Дэниэля Деронду, зашла сестра Мерседес и сообщила, что меня хочет видеть приоресса. Я ответила, что занята, но она решительно забрала у меня книгу и сказала, что приоресса хочет видеть меня безотлагательно. Что ж, я немало слышала о начальнице. Ее называли ротвейлером, и она ела человеческую плоть, когда была в хорошем настроении. Мерседес сказала: «Причешись, а то вся растрепалась», а я послала ее подальше, но к приорессе все-таки пошла.
Мне думалось, что она окажется бабищей с квадратной челюстью, шести футов ростом, этакой боевой кобылой вроде доктора Маккаллистер, выдыхающей дым. Как бы не так: Джетти фон Швериген оказалась маленькой, худощавой пожилой дамой, в полном орденском облачении сидевшей в кресле с книгой. Увидев, что я замешкалась в дверях ее кабинета, она пальцем поманила меня и указала на стул напротив, а сама достала папку, видать мою историю болезни, и внимательно просмотрела. Кабинет был без затей: белые стены, письменный стол, низкие книжные стеллажи, большие настольные часы в футляре из дерева на канцелярском шкафу, несколько фотографий в рамках и большое распятие — единственное настенное украшение. Ее внимательные голубые глаза смотрели на меня сквозь очки в золоченой оправе до тех пор, пока я не почувствовала неловкость. Потом она слегка вздохнула и сказала:
— Эмили Луиза Гариго, что нам с тобой делать?
У нее был акцент, легкий, почти неуловимый. Помню, меня удивило, чего ради немку поставили во главе американского приората. Я ответила, что хотела бы от них свалить, а когда она озабоченно осведомилась, куда же я пойду, не имея ни одежды, ни денег, ответила, что справлюсь, потому что помнила о кубышках с золотом и была уверена, что сумею найти их по памяти. Приоресса, оказывается, знала про наркобизнес, поэтому без обиняков сообщила, что мою физиономию показывали по телевизору, а несколько федеральных агентов заглядывали в приорат. Я спросила ее, почему она не сдала меня, и она сообщила, что это не ее дело, а потом попросила рассказать о той женщине, которую я встретила, когда была ранена, и которая отвела меня сюда.
Читать дальше
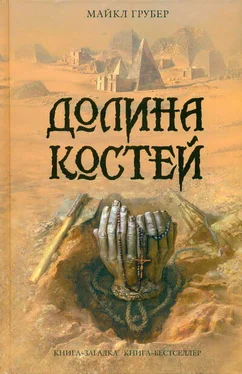
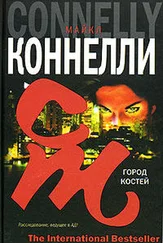
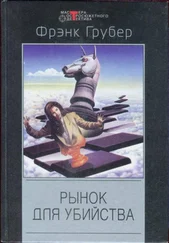







![Мэри Стюарт - Костер в ночи. Мой брат Майкл. Башня из слоновой кости [сборник]](/books/421077/meri-styuart-koster-v-nochi-moj-brat-majkl-bashnya-i-thumb.webp)

