Час спустя, когда я освежевала его, сняла шкуру, разделала тушу и успела уложить часть добычи в рюкзак, загремели первые выстрелы. Сначала одиночные, на которые я не обратила внимания, потом очереди, а уж потом, когда громыхнуло так, что содрогнулась гора, я побежала вверх по тропе. Сама по себе стрельба, учебная или просто ради забавы, была у нас, как я уже писала, делом обычным, но я подумала, что выстрелы вызвали детонацию заложенных в штольнях зарядов, и испугалась за работавших там людей. Мысль о том, что подрыв мог быть произведен намеренно, из-за того, что Ноб подвергся нападению представителей закона, мне даже в голову не приходила, пока я не сошла с тропы на дорогу из гравия и не увидела, что там полно людей в форме и автомобилей с правительственной маркировкой. Они вели огонь, пригибаясь за машинами, а некоторые, сраженные ответными выстрелами, корчились на земле, истекая кровью. Пули свистели над головой. Двое — каски и противогазные маски делали их похожими на космических пришельцев — повернулись, увидели меня и, видимо, решили, что я из числа защитников поселения. При мне было ружье, которое я и не подумала бросить, а вместо того повернулась и бросилась бежать. Один из них выстрелил мне в спину; я упала, покатилась вниз по склону горы и катилась до тех пор, пока с треском не врезалась в густые заросли лавра и не пропала из виду.
В кустах было темно, к запаху лавра примешивалась вонь гнили. Я лежала лицом вниз, и тяжелый рюкзак с олениной прижимал меня к холодной земле и маленьким твердым стеблям. Очень долго я не осмеливалась пошевельнуться. Стрельба, по прошествии времени, стихла, взрывы раздавались еще несколько раз, но уже не такие громкие. Помимо этого, до меня доносился рев моторов, завывание сирен, людские голоса. Боль в спине была не такой уж сильной, она воспринималась почти как давление рамы набитого олениной рюкзака: болезненно, но не страшно. Гораздо больше меня донимали глубоко впившиеся колючки, особенно одна, вонзившаяся в грудь и, как мне казалось, норовившая проткнуть сердце. Я даже подумала, что умру в этих лавровых зарослях, но все равно не двинулась, а вместо этого стала припоминать, что говорил Ницше о смерти. Выплыло одно — что волноваться на сей счет постыдно.
Потом я то ли заснула, то ли потеряла сознание, а когда очнулась, было темно и тихо: лишь в листве над головой шелестел моросящий дождь. Похолодало — от этого я, наверное, и пришла в себя. А еще там был сияющий человек: я видела его в блеске дождевых капель. Он говорил мне о том, что вот теперь я умру, меня объедят зверюшки и жуки, от меня останется один скелет. Не обидно ли это, а, бедняжка Эммилу? Все это так меня разозлило, что я высвободилась из лямок рюкзака и попыталась выпрямиться. Вот тут-то меня и пробрала настоящая боль.
Которая, впрочем, не помешала мне идти вниз по склону, проламываясь сквозь кусты, спотыкаясь и падая. Дождь усилился, вода в речушке поднялась и, когда я переходила ее вброд, уже доходила мне до бедер, а я, словно пережитого оказалось недостаточно, поскользнулась и вымокла до нитки. Тут мне стало ясно, что больше уже невозможно сделать ни шагу, нужно прилечь, чуть-чуть отдохнуть. Но внезапно появилась сиделка, та самая сиделка с глазами как листья ивы, знакомая мне с первой ночи в доме Орни, и сказала: «Нет, дитя, не сейчас, иди, потерпи еще чуточку». Меня это почему-то не удивило, я даже не задумалась, кто она и откуда могла там взяться. Облака были низкими и тяжелыми, небо безлунным, но я отчетливо видела ее белый головной платок, от которого исходило свечение. Сиделка говорила на неизвестном мне языке, то есть звучание слов было мне незнакомо, но смысл их я прекрасно понимала.
«Господь помог тебе пройти достаточно, дитя, — сказала она, — но дальнейший путь ты должна будешь одолеть сама». Я ответила ей, что не верю ни в какого бога, и осознала, что все происходит во сне и что я умираю.
Потом мне снова стало тепло, и я плыла и плыла по длинному белому коридору, думая: «Так вот какая она, смерть». Совсем рядом со своей головой я различила грубую текстуру штукатурки, электрическую арматуру, белую краску, отставшую вокруг того места, где хромированная трубка крепилась к базовой плате, и пластинку с надписью: «Кэйби электрик инк. Декатур, Джорджия». Опустив глаза, я увидела ряд больничного вида коек, все они, кроме моей, были пусты. Было утро, я лежала навзничь на постели, не мертвая, но ощущающая себя таковой, и темнокожая женщина в белом головном уборе и фартуке измеряла у меня кровяное давление. Наши глаза встретились, и на какой-то момент я приняла ее за сестру Тринидад Сальседо из Майами и подумала: может быть, все, что происходило со мной после нашей последней встречи, — сон? Но нет, она сказала: «Что ж, ты снова с нами, как ты себя чувствуешь?» Я произнесла традиционное: «Где я?» — и она ответила, что это лазарет приората Святой Екатерины, а ее зовут сестра Мерседес Панной. Потом сестра осведомилась, как меня называть, получила ответ: «Эмили Луиза Гариго», а я в свою очередь поинтересовалась: «Вы сестра Крови, да?» Она бросила на меня заинтересованный взгляд, но не ответила, а спросила, не беспокоит ли меня что; обычно сиделки задают такой вопрос, когда хотят узнать, не испытываете ли вы адскую боль, и вот тут я поняла, что вся моя спина горит и от левой лопатки расходятся пульсирующие волны. Я сказала, у меня болит спина, и она ушла и вернулась с парой красно-белых капсул и чашкой воды.
Читать дальше
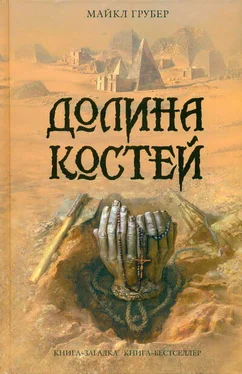
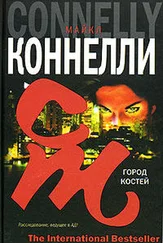
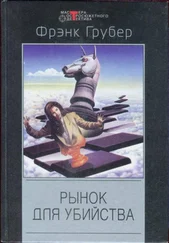







![Мэри Стюарт - Костер в ночи. Мой брат Майкл. Башня из слоновой кости [сборник]](/books/421077/meri-styuart-koster-v-nochi-moj-brat-majkl-bashnya-i-thumb.webp)

