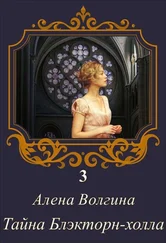Вспоминаю, как мама читала мне книги в красивом сафьяновом переплете. Они лежали на круглом столике в гостиной.
Мама сидела на террасе, и волосы спадали у нее на плечи, а наша служанка Броди расчесывала их.
Как мама укладывала меня спать в любимой комнатке с двумя маленькими кроватями и картинами на стенах. На одной был изображен хороший мальчик, решающий арифметические примеры, на другой — заспанный мальчик, идущий в школу, а прямо над дверью висел портрет лидера ирландских националистов Дэниела О'Коннела, с таким выражением лица, будто он хочет напугать меня.
Вспоминаю, как папа появляется на пороге и смотрит на меня и как при отблесках огня в камине тень от его фигуры ложится на пол, когда он подходит, чтобы пожелать мне спокойной ночи.
А потом мы с мамой поехали в Париж, мама заболела, и мы поселились у доктора в большом доме, где в саду в разные стороны расходилось множество тропинок. Иногда мы целый день проводили вместе, и я бегала вместе с ней по пологим склонам. И мама снова становилась как девочка и часами играла со мной. А потом приехали папа вместе с няней. Папа говорил, что мы с мамой его самые любимые и самый счастливый момент в его жизни случился, когда он оказался на Брайтон-роуд (мама говорила, он сидел, уткнувшись в книгу, и едва ли заметил их с тетей) и увидел, что у экипажа сломалась ось.
Иногда мама сердилась и швыряла чашку, которую держала в руках, на пол или стукала в сердцах ладонями по ручкам кресла, хотя для меня всегда оставалось загадкой, что могло вывести ее из себя. Тем не менее даже в такие моменты я никогда не боялась ее, потому что знала: она меня любит и никогда не сделает мне ничего плохого.
Мама и сама говорила это.
Потом доктор сказал, что нам лучше больше не видеться, и мы вернулись в Англию. Я вспоминаю папино лицо в дилижансе, который увозил нас из Парижа, и лампу, раскачивавшуюся на ухабах, и папу, ругающего меня за какую-то шалость, и себя саму, мечтавшую скоро снова увидеть маму, и о том, что все будет хорошо.
Но я ее так больше и не увидела.
А потом она умерла — мне исполнилось тогда двенадцать. У меня был большой друг по имени Тиши Коул, а папа писал книгу о сэре Томасе Море, — и мне стало казаться, что кто-то, кого я знала много лет назад, а теперь забыла, возвращается и преследует меня. И я решила никогда больше не забывать маму, ее золотистые волосы и то, как мы вместе с ней сбегаем по склонам в саду докторского дома. Но доныне я так этого решения и не выполнила.
Мне кажется, что я очень похожа на маму.
У меня тоже есть комната, где я люблю сидеть, мне все приносят, и люди добры ко мне.
Бывает, я тоже злюсь и не нахожу себе места.
У меня тоже золотистые волосы, хотя, кажется, не такие длинные, как у мамы.
Но папы и всех других, на кого я могла бы положиться, больше нет и они никогда уже не вернутся.
Однажды, еще до того как мы с Генри поженились, я попыталась рассказать ему про маму и про то, что происходило в доме доктора, и не только — даже про мистера Фэрье, но он лишь покачал головой, улыбнулся и сказал, будто все это не имеет никакого значения.
Из всех цветов самый мой ненавистный — роза.
И вот совершенно неожиданно мой круг сделался шире (как сказала бы, угощая чаем какую-нибудь знаменитость, миссис Брукфилд, [26] Брукфилд, Джейн Октавиа (1821–1896) — жена преподобного У.Х. Брукфилда, известная главным образом своей продолжительной и скорее всего платонической связью с Теккереем. Уже в зрелом возрасте начала писать романы.
которую мы знавали в старые кенсингтонские дни).
Вместо долговязого лакея, который никогда не говорил ни слова, обед сегодня принесла одна из служанок, девушка с волосами соломенного цвета, которую я иногда вижу в окно. Очень плотная, она несла поднос с блюдами с такой легкостью, словно на нем стояла всего лишь чашка с чаем.
— А Уильям где? — спросила я, дождавшись, пока она поставит поднос на стол.
— Извините, мадам, но он здесь больше не служит. — Девушка тряхнула головой.
Мне показалось, что она недовольна этим обстоятельством.
— И вы его заменяете?
— Так точно, мадам.
— По-моему, вы меня боитесь, — сказала я. — И совершенно напрасно: поверьте, я не сделаю вам ничего дурного. Как вас зовут?
— Эстер, мадам.
Больше она не произнесла ни слова, занявшись моим письменным столом, а потом разбросанными диванными подушками, которые уложила таким образом, что мне оставалось лишь порадоваться ее приходу. Совершенно очевидно, все здесь — сама комната, мои бумаги и так далее — вызывало у девушки интерес. Когда она работала, я перехватила несколько быстрых любопытствующих взглядов.
Читать дальше