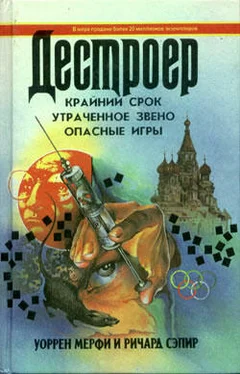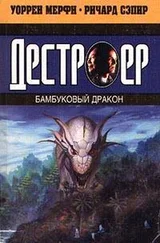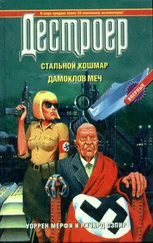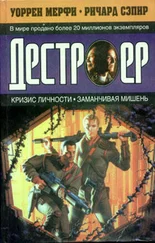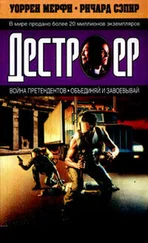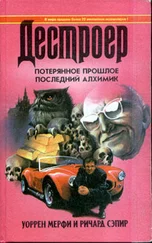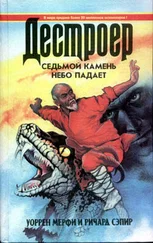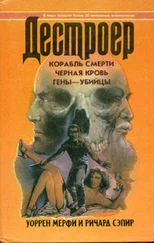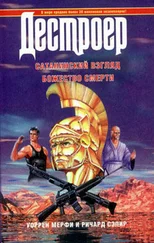– Вы не правы, – вмешался Римо. Он вырос в дверях и теперь оглядывал четверку с головы до ног. – Среди нас остались люди, полагающие, что зло должно быть наказуемо.
– Кто вы такой? – спросил один из киприотов.
Римо жестом потребовал тишины.
– Который из вас Тилас?
Коротышка с жидкими усами и глазами бассет-хаунда кротко поднял руку.
– Тилас – это я. А что?
– Я подслушал ваш разговор, – объяснил Римо. – Тебе я пойду навстречу: твоя смерть будет легкой.
Он исполнил обещание. Остальные умирали трудно.
Римо посмотрел на истерзанное тело последнего, в ком еще теплилась жизнь.
– Тебя найдут по весне, – сказал он. – Увидев, что с тобой стало, вся ваша банда уберется обратно на Кипр и забудет, как взрывать младенцев. Так что твоя смерть не напрасна: ты отдаешь жизнь ради соотечественниковкиприотов.
Умирающий издал нечленораздельный звук.
– Не слышу, – сказал Римо.
Звук не обрел членораздельности. Тогда Римо вынул у умирающего изо рта его правый локоть.
– Ну, говори.
– К черту соотечественников-киприотов!
– Так я и думал, – ответил Римо. – Если я повстречаю еще кого-нибудь из них, обязательно передам им твои слова.
Он снова вышел в холодную ветреную ночь и легко зашагал по снегу назад к обледеневшему склону.
Да, он – человек. Римо улыбнулся. Иногда совсем неплохо ощущать себя человеком.
Однако стоило ему ступить на борт баржи, качавшейся на озере Уиннипесоки, как иллюзия была поколеблена. Выяснилось, что у Римо обе ноги – левые и что по сравнению с ним гиппопотамы – солисты балета, а трубный звук, издаваемый слоном, – просто шепот любви.
Римо сменил черный комбинезон на хлопчатобумажные брюки и белую майку. Взгляд его был обращен на престарелого азиата, только что сообщившего ему все это. Азиат сидел на циновке; вокруг него были расставлены чернильницы, валялись гусиные перья, на коленях у него лежал большой кусок пергамента, за спиной – еще несколько таких же кусков.
Все пергаменты, включая тот, что лежал у азиата на коленях, были девственно чисты.
– Сегодня тебе не пишется, Чиун? – спросил его Римо.
– Мне бы всегда писалось, – ответил Чиун, – не будь у меня такой тяжести на сердце.
Римо отвернулся и устремил взгляд в окошко. В ночном небе все еще поблескивали звезды, но светлеющий горизонт предвещал близкую зарю.
– Выкладывай, чем я мешаю тебе жить на этот раз, – произнес Римо, не оборачиваясь.
– Очень полезное замечание, – сказал Чиун.
– Вдумчивое. Я – вдумчивый человек. Я понял это сегодня ночью там, на горе: я – человек, только и всего. Все твои глупые корейские басни насчет Шивы-Дестроера и моей божественной сущности – чистый вздор. Я – человек.
– Ха! – отозвался Чиун. – Ты сказал «вдумчивый»? – Говорил он пронзительным голоском, но на безупречном английском, без малейшего акцента. – Мне смешно! Ты – вдумчивый? Ха-ха-ха!
– Да, вдумчивый, – сказал Римо. – Потому что стоит лишить тебя возможности клеймить меня – и тебе придется смириться с фактом, что ты не способен ничего написать.
– Я не верю собственным ушам, – сказал Чиун.
– Повторяю: не можешь написать ни словечка. Тебе не написать ни сценария, ни книги, ни рассказа, ни сентиментальных стишков, даже если ты заставишь какой-нибудь журнал заключить с тобой договор. А уж такие стишки способен накропать каждый!
– Легко сказать, – молвил Чиун. – Пустая детская похвальба!
– Стихотворение номер одна тысяча триста шесть, – сказал Римо. – «О, цветок, о, цветок с лепестками. О, цветок с чудесными лепестками. К тебе летит пчела, большая пчела. О, пчела, ты видишь цветок? О, цветок, ты видишь пчелу? Раскройся, цветок, прими пчелу! Лети быстрее, пчела, приветствуй цветок!»
– Довольно! – взвизгнул Чиун. – Довольно! – Он стремительно вскочил на ноги и вытянулся, как струйка пара из носика чайника. Он был мал ростом, его желтая кожа была усеяна морщинами, как и подобает в 80 лет от роду. Его желтое парчовое одеяние разгладилось, карие глаза смотрели укоризненно.
– Давно бы так! – сказал Римо. – Такую чушь напишет любой. Хочешь послушать еще?
– Никто не смог бы писать, когда приходится столько отвлекаться.
– Такие стихи может писать кто угодно и когда угодно, – сказал Римо. – Единственное, что спасало их от участи всемирного посмешища на протяжении двух тысяч лет, – это то, что они написаны по-корейски, поэтому никто не знает, насколько они плохи.
– Не понимаю, как можно, начав беседу в столь любезном тоне, так быстро перейти на гадости, – сказал Чиун, – Все белые – безумцы, но ты – образчик нестерпимого безумия.
Читать дальше