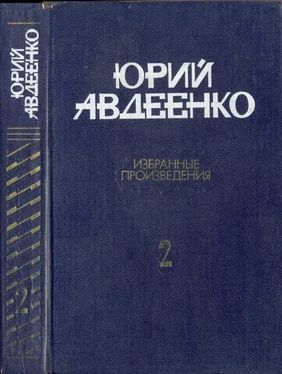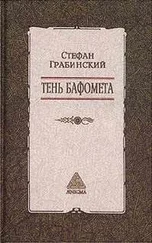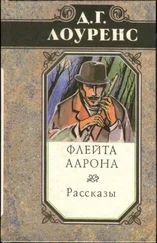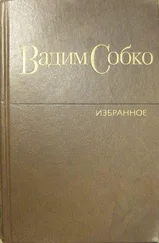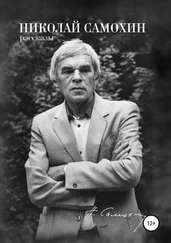— Теперь темнеет поздно, — отвечает Чирков.
— Весна же… — Аленка поворачивается к Каирову: — Счастливого пути.
— Спасибо. А знаешь… Дай-ка я тебя поцелую, дочка.
Плечи у Каирова широкие. И голова Аленки исчезает между ними.
Катер возле пристани переваливается с борта на борт. Кто-то невидимый размахивает впереди зеленым фонарем. И линии получаются, как большие листья.
— Теперь можно отчаливать, — говорит капитан-лейтенант.
Каиров протягивает Чиркову руку:
— Я тобой доволен, Егор Матвеевич. Рад буду, если еще придется вместе работать. А вообще… Бодрости тебе, лихости, смелости… Только не покоя.
Застучали моторы. Метнулись над берегом вспугнутые чайки.
Корма катера поползла влево медленно, почти незаметно.
Темное пространство воды, хлюпающей о старые сваи, вдруг стало расширяться, вытягиваться, поигрывать скупыми предрассветными бликами. Потом катер осел, замер, стряхнул оцепенение и рванулся к створу портовых ворот. След за ним потянулся широкий, курчавый, белый, словно тополиный пух.


Землянка вгрызалась не глубоко. Потому что лопаты только надкусывали эту твердую, как скала, землю. А время ошалело. И неслось диким наметом. Семеро бойцов три с половиной часа не выпускали из рук черенки. И даже не курили — приказ поступил строгий: землянку для командира полка закончить к 17.00.
В назначенное время пришел майор — командир полка и с ним две девчонки-радистки. Обе круглолицые, рыжеватые, очень похожие одна на другую, возможно сестры. Потом явились адъютант и несколько красноармейцев. Они принесли ящики, мешки, раскладные стулья. Связисты с тяжелыми катушками стали тянуть линии на позиции батальонов.
КП спрятался близ вершины горы, справа, где густо росли вечнозеленые фисташки и можжевельник, игловидные листья которого застилали землю, и она была мягкой, как манеж, и пахла хвоей. Метров на тридцать ниже, на тыльном, невидимом врагу склоне, между камней выступал родник. Он падал вниз с высоты человеческого роста в круглую каменную чашу, такую большую, что в ней могла уместиться машина. Родниковая вода, как обычно, плескалась холодная и чистая. И конечно же, очень вкусная.
Противник окопался за лощиной, прикрытой ксерофильным редколесьем. Передний край немцев чернел на юго-западных скатах, пологих, лысых, и лишь самый левый фланг был прикрыт низким и жестким кустарником. Данные разведки говорили, что на этом коротком участке немцы сосредоточили 72-й пехотный полк, 10-й велоэскадрон и 500-й штрафной батальон.
Солнце отступало. И темнота опускалась на землю плавно, словно на парашюте. Тяжелая туча низко замерла над горой. Из лощины не тянуло ветром. И командир полка с печалью подумал, что к ночи соберется дождь.
Адъютант притащил термос с кашей. И девчонки-радистки Галя и Тамара из Новороссийска, которые не доводились сестрами, но действительно были очень похожими, сели ужинать. На столе, сложенном из ящиков, лежала клеенка, новенькая, красно-белая, гордость девчонок, и чадила коптилка — сплющенная гильза артиллерийского снаряда и огненный фитилек над ней, как гребень.
Девчонки были красивые. И пудрились, и подкрашивали губы. И не принимались за еду, не помыв рук. Но майор, который уже третью неделю спал по два часа в сутки, был равнодушен к «подвигам» девчонок и, что совсем непростительно мужчине, забывал порадовать их, хотя бы иногда, комплиментами.
Вот почему радистки завизжали от восторга, когда на пороге землянки появился полковник Гонцов — из штаба дивизии. Худощавый, с красивыми глазами, он снял каску, бросил ее в угол. Распахнул плащ-палатку и вытащил откуда-то две большие розовобокие груши. Он протянул груши девчонкам и, здороваясь, поцеловал ручки. Майор, который, как и полагалось при появлении старшего начальника, стоял по стойке «смирно», вдруг обратил внимание на разрумянившихся радисток и удивился, словно только сейчас понял, что они женщины.
— Завидую тебе, Журавлев, — вздохнул полковник Гонцов. — Умеешь устраиваться. Ведь эти два ангела-хранителя любую землянку на дворец похожей сделают.
Майор Журавлев, на которого и в лучшие годы женская красота чаще всего навевала скуку, равнодушно пожал плечами.
Читать дальше