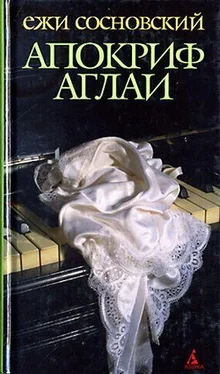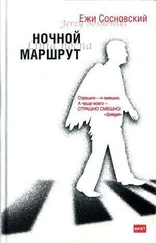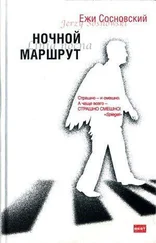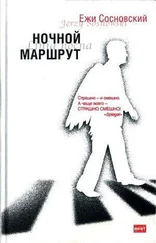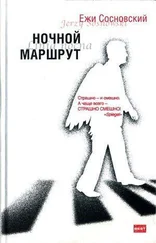Подъем лодки со дна – особенный опыт, чрезвычайно патетический: это словно вознесение, полет к поверхности моря, к свету; все те же ощущения, о которых я уже рассказывала, только в обратном порядке и с противоположным психическим вектором. Мы как бы рождались, исполненные страха, но и силы, и, знаете, было в этом что-то от Вагнера. Вибрация всех переборок, сливающаяся с глухим шумом – звуком воды, вытесняемой из балластных цистерн; мы почти видели эту пену, которую выблевывало черное тулово нашей лодки, становившееся все легче, все стремительней возносящееся вверх. Я много раз мысленно возвращалась к той минуте: при всех сомнениях, а в последнее время уже и при угрызениях совести, она оставалась в моей памяти окруженная каким-то неизгладимым светлым ореолом, и, знаете, иногда, в минуты депрессии, мне казалось, что я просто-напросто с удовольствием, укрытая от всего мира, жила бы в полной безопасности в такой лодке только ради того, чтобы изредка переживать такие вот моменты всплытия на поверхность. Надо сказать, жизнь осуществила мою мечту, но, как она всегда это делает, страшно коварным образом. Потом на двух тяжелых транспортных самолетах мы прилетели в тот город за Уралом – мне-то тогда казалось, что перед Уралом, карта, как и все прочее, у меня тоже переориентировалась, – а потом был еще один перелет на военный аэродром Окенче. Разгрузка производилась ночами, чтобы не бросаться в глаза.
Несколько следующих дней заняли пробные запуски: мы проверяли поведение Аглаи на улице, сперва на боковой, где стоял дом, потом стали уходить все дальше, с ней осваивалась охрана, я начала здороваться с соседями, а первый разговор с киоскером вызвал у меня эйфорию, потому что было ясно: он не понял, с кем, а вернее, с чем, разговаривает. В общем-то так и должно было быть, но после ее возвращения мы выпили шампанского. Как было установлено с самого начала, квартиру Аглаи я видела только ее глазами и ни разу там не была; официально объяснялось, что это для того, чтобы я не могла привыкнуть к иному восприятию интерьера, кроме как при ее посредничестве, и чтобы не возбуждать ничьих подозрений, но много позже я пришла к выводу, что тут имелась еще одна, скрываемая от меня цель: чтобы я не установила с этим местом непосредственных эмоциональных связей, чтобы воспринимала его как некую иллюзорную, несуществующую реальность или, вернее, существующую только в компьютерной программе. Вскоре мы получили материалы о Кшиштофе – его фотографии, информацию о семье и отношениях в ней, о склонностях, о профессиональном пути, ну и несколько анекдотов из его жизни, одним словом все, что смогли рассказать о нем его болтливые знакомые. А я, когда не работала в упряжи, заучивала наизусть биографию моей героини. В определенном смысле уже шел обратный отсчет: мы знали, что журналист установил с Кшиштофом контакт, мы получали все самое интересное и существенное из его записей – как интервью, которые ему давал Кшиштоф, так и неофициальных их разговоров, поскольку у «Владека» по гэбэшной методе в галстуке все время спрятан был микрофон. Затем следующий шаг: мой партнер принял приглашение на день рождения. Передающая станция была установлена в подвале виллы; там же сидела я в своей упряжи. Потом, когда наш человек повез их в машине в Варшаву, контроль над Аглаей переняла моя сменщица на центральном пункте, в соседнем доме. Дело было в том, чтобы не допустить запаздывания в реакциях марионетки, а оно при большом расстоянии от оператора могло быть… нет, не то чтобы заметным, а, скорее ощутимым. Это было первое свидание, и оно могло стать решающим. Но все пошло как по писанному. Ночью мы перебрались снова в Варшаву и больше таких вылазок не совершали. В случае чего Зофья должна была говорить, что терпеть не может выезды за город.
Первая ночь с Кшиштофом… Странное чувство. Сейчас-то я думаю об этом, в сущности, с нежностью и грустью; нет, нет, я не пытаюсь представить себя лучше, чем я есть на самом деле, но мне действительно жаль, что ему не встретилась настоящая женщина, хотя бы… я. Ведь то было для него бегство из дома, этакий отрыв, как когда-то называла это молодежь, отрыв двадцатипятилетнего мужчины, который не заметил, что стал взрослым, – и к любой отдавшейся ему женщине он испытывал бы точно такое же чувство собачьей благодарности. Тогда я, по правде сказать, не верила, что он не заметит разницы, хотя внутренне отдавала себе отчет, что руководство проекта облегчило себе задачу, выбрав того, у кого, по полученной нами информации, в этой сфере не было никакого опыта и сравнивать было не с чем. И прежде всего я почувствовала облегчение, когда оказалось, что он так сильно вовлекся, так стремительно втянулся. Мы рассчитывали, что он поселится у меня перед первым отборочным туром и что я уговорю его не пойти на какое-нибудь прослушивание, а он уже через два или три дня был мой. Мы тогда много разговаривали, он был страшно трогателен со своей наивностью, с полнейшим неверием в существование зла, с восхищением своей мамочкой, хотя он и рассказывал о ней ужасные вещи, но так, словно не понимал, что говорит. А когда я попросила его рассказать о дальних родственниках, он начал преподносить какие-то истории, которых не было в его досье, и у меня это вызвало замешательство, но я не могла показать, что удивляюсь; успокоила меня только надпись, которую зажег техник по памяти: «СОЧИНЯЕТ». Поначалу я не могла понять зачем, но в какой-то момент меня осенило: ведь в его предшествующей жизни был только рояль, а Кшиштоф чувствовал, что я не люблю говорить о музыке; ну а, кроме рояля, у него всего-то и было, что несколько травматических сцен с матерью, неудачный роман с Евой, который у нас был задокументирован благодаря болтливости «Викинга» – представляете, он еще спустя многие годы хвастался за пивом, что имел женщину на глазах у подростка, и от этого у него, как он, сволочь, выражался, «стояло со страшной силой». Вот, в сущности, и все. Ну, еще какие-то легенды о тетках, о родственниках во время восстания. Так что бедняга Кшись заполнял пустоту, как мог. Мне он тогда не нравился. Я думала: «Старик, если бы не проект „Венера", ты никогда бы не добился ни одной женщины, и кончилось бы тем, что тебя соблазнил бы какой-нибудь педик из балета или оркестра…» Потом я сожалела, как и сейчас, когда об этом рассказываю. Вот вы говорите, он любил Зофью. Да, любил. А что ему оставалось делать?…
Читать дальше