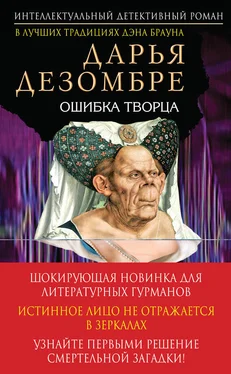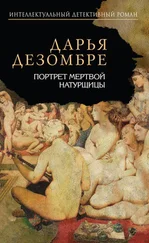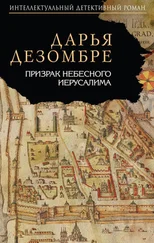Уже на улице Андрей не выдержал, высказал то, о чем думал во время осмотра тела:
— Он знал его, Паш. Они были знакомы. Шварц его впустил, повернулся к психу спиной, прошел в глубь дома… А потом сильно удивился тому, что произошло. Кто ж это мог быть, черт возьми?
Она впервые сделала это. Сварила кофе и принесла в его кабинет. Он был менее пунктуален, чем Шварц, но задачей Брони не являлось сохранить напиток максимально горячим. Это был жест доброй воли, способ дать понять, что она — с ним, ЗА него. Она заменила яркий солнечный свет на ровное тепло от радиатора. Потому что аналога даже этому теплу вокруг не наблюдалось. Броня понимала, что не выживет без Евгения Антоновича: если и он уйдет — то ничего не останется. Ведь институт — это не здание, пусть тысячу раз дизайнерское. И даже не оснащенные по последнему слову техники лаборатории. Институт — это возможность прикоснуться к другому знанию, обменяться им, как рукопожатием. Вот почему мало кто из ведущих ученых, уехавших в 1990-х и 2000-х, вернулись обратно в Россию, хоть их и прельщали большими деньгами. Чиновники не понимали, что, если бы эти люди хотели денег, они, со своими блестящими мозгами, занялись бы чем угодно, кроме науки. Их же, в большинстве своем, деньги занимали постольку-поскольку. Намного существеннее было оказаться в окружении своей «научной» семьи: в любой момент при необходимости стучаться в соседнюю дверь, чтобы прояснить для себя какой-нибудь вопрос — и пойти дальше. Эту-то научную школу и развалили в новой России во всех областях, и теперь ее приходилось собирать по крупицам, надеясь на время и на новые таланты, которыми, как известно, не оскудевает русская земля, хоть залей ее кровью и выдави всех способных к научной мысли в эмиграцию. Шварц вот вернулся. А Калужкин никуда и не уезжал. Его эмиграция была внутренней. «Интересно, — думала Броня, — почему он решил уехать в глухую провинцию? Ведь он тоже талантлив — только дарование его спокойное, не звездное». Кофе уже почти остыл, и Броня с тоской посмотрела на пейзаж за окном, заштрихованный летним быстрым дождем, — неужели не придет? Но вот за спиной открылась дверь, и Броня так и застыла, не отрывая взгляда от окна. А Калужкин — в проеме двери. Он молча переводил глаза с чашки кофе на Бронину скорбную спину в обрамлении оконной рамы.
— Слава богу, они вас выпустили, — наконец обернулась Броня. — Я очень боялась.
— Спасибо за кофе. — Калужкин снял пиджак, оставшись в вечном своем сером свитере.
— Я сделаю еще, этот совсем остыл. — Броня бросилась к столу, схватила чашку.
— И мне, если не трудно, — раздался вдруг низкий голос. В дверях стояла Надя Шварц. В черном коротком платье с кружевным белым воротником и черных лаковых лодочках, волосы забраны в строгий гладкий хвост.
Броня на секунду замерла, как замирали все в Надином присутствии:
— Мои соболезнования. Я… Я сейчас сварю кофе.
— Спасибо, — сказала Надя. Неясно вот только, в ответ ли на соболезнования или в благодарность за кофе. И подняла огромные глаза на Калужкина. — Дядя Женя, как вы? Держитесь?
И она грациозно опустилась на стул рядом.
— Думаю, как ни тяжело, вам теперь придется взять на себя директорство… — сказала Надя негромко и дотронулась тонкими пальцами до лежащей на столе руки Калужкина.
Броня поняла: она тут лишняя, и тихо выскользнула за дверь. Странно, думала она, делая кофе: ей показалось, что Надя чуть ли не заигрывала с Евгением Антоновичем. Эти мягкие, вкрадчивые интонации, узкая ладонь, накрывающая почти интимным жестом его руку. Но удивительным было даже не это, — Броня задумчиво посмотрела на сахарницу: такая девушка, как Надя, наверное, пьет кофе без сахара? Нет, поразительным было другое. Бронислава поставила все-таки на всякий случай простую, белого фарфора сахарницу на поднос. Поразительной оказалась реакция Калужкина. Точнее, отсутствие какой бы то ни было реакции. Ведь Броня уже привыкла наблюдать мужской безусловный рефлекс на дочку Шварца — этот мгновенный столбняк от встречи с прекрасным. Да что там мужской! Разве сама она не пребывала в том же восторженном оцепенении, заглядевшись в эти глаза? Красота, думала с горечью Броня, сильнее ума, образования, сильнее чувства юмора и всего, чем она сама могла бы похвастаться. Красота безусловна, мгновенно узнаваема, хоть и не всегда легко описываема. Годами, глядя на проходящую мимо нее Надю, Броня сначала замирала, как член некой секты, но стоило той скрыться за дверью отцовского кабинета, накатывала горечь и обида на судьбу. Рядом с Надей все усилия по наведению марафета казались бессмысленными, все ее сомнительные внешние достоинства — смехотворными. Надя была инопланетянкой, или вот — чистопородной борзой рядом с безродными шавками. Причем она, Броня, казалась себе просто помесью бульдога с пекинесом. И вот… размышляла Броня, задумчиво неся поднос с кофе, на кокетство такой девушки невзрачный, немолодой и скучный Калужкин, явно не избалованный женским вниманием, не отреагировал. Совсем. Не взмок, не дернул кадыком иль коленкой, не попытался оправить мятый свитерок… И тут еще одна сцена вспомнилась Броне, и она сбилась с шага. Пару месяцев назад в кабинете Шварца проводилось научное совещание; присутствовали сам Борис Леонидович, Калужкин, Броня и еще человек пятнадцать мелкого и среднего научного звена, в основном мужского пола. Надя постучалась и, извинившись, попросила разрешения быстро переговорить с отцом. И вот что тогда заметила Броня. У всех присутствующих в кабинете было одно выражение лица: восторженное, очарованное, чуть ли не на грани с экстазом. И только у двоих оно совершенно не поменялось. У уже отмеченного сегодня в подобной нечувствительности Калужкина и у отца прекрасного создания — профессора Шварца. Броня и не заметила, что замерла, погрузившись в воспоминания, у двери в кабинет, а дверь вдруг распахнулась, и из нее вылетела с совсем не благостным выражением лица Надежда Шварц. Чуть не сбив Броню с ее подносом с ног, Надя окинула ее злобным взглядом и, не попрощавшись, быстро пошла по коридору. Броня, застыв теперь уже от удивления, молча смотрела ей вслед.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу