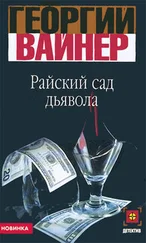Да и мне ли кому-то пенять на недостаток решительности, на неготовность плюнуть на все и помчаться сломя голову вперед!
– Я не поняла тебя, – требовательно напомнила Галя: я ведь не ответил на ее вопрос, а это было своеобразной формой последнего слова в споре, и уж подобного Галя никак не могла допустить.
Я притормозил у железнодорожного переезда и остановил машину в конце длинной очереди, выстроившейся у шлагбаума. Выключил зажигание, и в наступившей тишине мой голос прозвучал неубедительно громко, с вызовом, противно декламационно:
– Пока человек жив, как ты правильно заметила, его жизнь не останавливается. И моя тоже не остановится. Но она сделала паузу. Перебой…
Эх, тут бы помолчать Гале, все равно уже поднялся полосатый шлагбаум, и машины осторожно, гуськом потянулись через переезд, и мы бы покатили вслед за ними, скорость, гул дороги и суета зеленого «москвича» за мной отвлекли бы нас. Но ее уже захватил азарт спора и бессмысленная страсть сказать в любом разговоре последнее слово.
Она хмыкнула и произнесла:
– У меня возникло сразу два вопроса. Во-первых, что бы ты считал правильным сделать вместо поминок? А потом я хотела бы узнать длину, так сказать, срок этой паузы…
– Галя, ты чего хочешь от меня? Зачем ты достаешь меня? – спросил я негромко и вильнул вправо, ближе к обочине, чтобы пропустить вперед наконец рванувшегося на обгон ненормального «москвича».
– Я не достаю тебя, – сердито ответила Галя. – Я тебя люблю, собираюсь замуж. Стараюсь понять твои странные рефлексии, ты спрашиваешь меня, чего я хочу от тебя. И поэтому хотела бы услышать ответ на свои вопросы.
– Пожалуйста, – кивнул я и почувствовал, как во мне пронзительно зазвенела злость. – Я хочу, вернувшись с кладбища, не пить водку и трескать блины с селедкой, поддерживая банальный разговор об очень хорошем, хоть и странноватом человеке Коростылеве, а подняться к нему в комнату, лечь на продавленный диван, накрыться с головой и долго лежать в тишине и одиночестве и вспоминать Кольяныча, его нелепые поступки, его всечеловеческую доброту, его земную честность, его невероятные выдумки, я хочу плакать о нем и смеяться до тех пор, пока не усну, и во сне он мне приснится снова живой, и мы с ним последний раз побудем вместе. Это тебе понятно?
И вдруг в памяти снова всплыл – холодком кольнул в сердце растрепанный помехами голос Лары по телефону: «Его убили…»
А Галя медленно ответила:
– Это мне понятно. Теперь объясни насчет паузы…
И в голосе у нее было что-то неприятное, как у глупых молодых сыскарей на допросе, когда, спрашивая о чем-то, они тоном дают понять – говорить-то ты можешь что хочешь, но я ведь все равно правду знаю.
– Насчет длины паузы, Галя, я тебе ничего не смогу объяснить. Эти перебои кардиограмма не фиксирует. Они остаются с нами навсегда – как новые морщины, как свежая седина…
Она дождалась, пока машина одолела длинный тягун и надсадный рев двигателя несколько утих, тогда заметила:
– Любопытный ты человек…
– Чем это?
– Если бы я умерла, исчезла, испарилась – так, мне кажется, ты бы этого попросту не заметил. Не то что морщины и седины…
– А мне этот разговор кажется глупым, – сказал я уверенно.
– Наверное, глупый разговор, – легко согласилась Галя. – Главное в том, что потом и вспомнить нечего будет. Что ж мне-то делать?
Сжав зубы, я смотрел прямо перед собой на гибко раскручивающуюся асфальтовую ленту, а с двух сторон к дороге подступал наливающийся сочной зеленью лес, и эта зелень всех оттенков – от почти черных елок до бледно-желтой вербы – гладила глаз, успокаивала, ласкала душу. Глубоко вздохнув, я сказал Гале мирно:
– Не надо сейчас ни о чем говорить… Мы вообще много говорим… Много, значительно, красиво… В этом мало толку…
– А в чем есть толк? – спросила Галя с ожесточением и болью. – Много говорим – нет толку, молчу – ты меня охотно не замечаешь. А в разговорах с твоим учителем был толк?
– Да, был, – твердо ответил я. – Он говорил со мной бесконечно долго, много лет, пока не объяснил мне очень древнюю истину: человек – мера всех вещей…
– И поэтому ты стал милиционером? – сухо усмехнулась Галя.
– Возможно, – пожал я плечами. – Очень может быть, что я именно поэтому стал хорошим разыскником. Я ведь умею в жизни только это…
В голубовато-зеленой дали, рассеченной пополам серым полотнищем дороги, обозначилась далеко впереди черная точка, которая постепенно росла, наливалась площадью, цветом, смыслом. Пока на синем квадрате не проступили отчетливая белая надпись «Рузаево – 16 км» и острая белая указательная стрелка.
Читать дальше