1 ...7 8 9 11 12 13 ...81 Теперь мама собирала все до единого журналы, в которых давались советы по механической вязке. Даже за послевоенные годы, когда появление портативных вязальных машин предчувствовалось, но не утверждалось. Но мама коллекционировала журналы так же упорно, как я собирал обертки от шоколадок. Те, что дарились ей подругами, и те, что она выписывала на дом, и те, что покупала в единственном в нашем городе киоске «Союзпечати». Она складировала их в шифоньере с той же безупречной педантичностью, с какой укладывала мои или отцовские вещи.
Самым главным после выкроек и вырезок являлось вот что: на обратной стороне журналов издательство размещало календари, словно намекая на то, что кройка и шитье — дело не самое скорое.
Сейчас мама держала в руках журнал за 1947 год.
— Немыслимо!.. — прошептала она, глазам не веря, голосом, покрывшим меня гусиной кожей. — Это была среда.
Я верил в отца, и сейчас мне плевать было на Штирлица. Мой отец выкрутился бы из любой переделки глаже его.
— Я говорю, это была среда! — Мама приближалась к нам, словно угрожая.
Ее роскошные рыжие волосы были рассыпаны по плечам, а глаза горели зелеными кострами. — Среда, говорю, майн либер манн!
— Да разве не это сказал я только что? — возмутился отец, улыбаясь.
— Но… среда? Как можно помнить?
— А чего тут помнить? — Отец развалился на диване, обняв меня. — Мы с группой приехали к твоим родителям. Все сели пить чай, а мы с тобой, уже не помню по какой причине… Нет, помню! Хотя нет, не помню. Мы вышли на улицу и оказались в кустах малины с человеческий рост. Я перепачкал свою белую рубашку ягодой, а та, что дал поносить мой будущий тесть, оказалась мне мала. В итоге сочинение я писал в клетчатой рубашке. Точно не помню, в чьей именно!
— Я не о малине, а о среде! — Мама была сегодня упряма как никогда.
Со своим бесценным журналом в руках она была похожа на сумасшедшую, очень-очень красивую, знающую три языка, любящую меня и своего «либер манна».
— Я просто угадал, — признался наконец отец.
Она расхохоталась, и журнал, теряя листы, взметнулся в воздух. Дурачась, отец закрылся от него как от кузнечного молота, на этом все и закончилось.
Ночью я не мог спать, все время думал о Галке и нащупывал ногами твердь. Мешал диванный валик, будь он проклят. В какой-то момент я успокоился, пообещал себе, что если Галка меня оставит, то я об этом никому не скажу. Так поступают настоящие мужчины.
Уже почти засыпая, я услышал тихий голос отца из соседней комнаты:
— Двенадцатого октября сорок шестого посадили мою маму. Мы тогда страшно голодали. Мама промышляла тем, что собирала вдоль железной дороги куски антрацита. Наберет мешок — и мы счастливы. Потому что тепло. Трудно без тепла в землянке в середине октября.
В сентябре еще как-то держались, ветки собирали. Это делать разрешали, хотя и покрикивали. Мы с мамой вязали сучья и волокли домой. А в начале октября маму арестовали за кражу государственной собственности. Она валялась вдоль всей дороги, и государство ее не собирало. Такая собственность была не нужна государству. Вот так мы остались с бабушкой.
Через неделю был суд. Там мне разрешили поцеловать маму через перила перед скамьей подсудимых, отполированные миллионами локтей. Лоб у нее оказался холодный-холодный, как в наказание за то тепло, которое она украла у страны. Он почему-то пах воском. Я целовал, а мама билась в судорогах и плакала так, как я никогда в жизни не видел.
Маме присудили два года лагерей. Один из них она мыкалась по этапам. Потом какой-то сердобольный дяденька из райкома партии уладил дело. Без симпатии, думаю, тут не обошлось. Так вот он-то ее и спас. Вернее, это сделал я, потому что единственным основанием для помилования был ребенок, оставшийся на попечении больной старухи.
Пока мама возвращалась, теплушками, на крышах паровозов, я спал с бабушкой. На день у нас было по кружке холодного чая — греть его уже никто не рисковал — и ломтю хлеба, на котором лежал хвостик ржавой селедки. Я знал, что бабуля умирала от чахотки и голода. Но почти всякий раз, когда ей не удавалось ничего перехватить на стороне, она ссылалась на больную печень и отказывалась есть. Это был праздник моей души. Я ел и не мог насытиться. Эти хвостики несчастные, которые шли к нам из ресторанов и обкомовских кухонь, я рассасывал до такой степени, что они распадались у меня во рту. Незаметно, как в сказке.
Пятого ноября сорок седьмого я перегнулся через бабушку, спросил, не болит ли ее печень, но ответа не услышал. Она не дожила до возвращения дочери восемь дней, но сохранила меня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
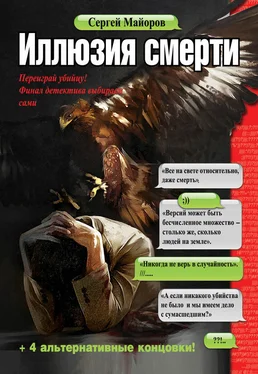




![Сергей Майоров - Слепой Агент [Последний долг, Золотой поезд]](/books/338454/sergej-majorov-slepoj-agent-poslednij-dolg-zolot-thumb.webp)


![Франк Тилье - Иллюзия смерти [litres]](/books/391536/frank-tile-illyuziya-smerti-litres-thumb.webp)



