Что-то прилетело слева, и, увидев звезды, Рони с запозданием понял, как больно лицом поймать чужой локоть. Щелк! Трос соединился с рамой и потащил вперед. Улица Бронко пошатнулась, и Рони рухнул к ее ногам. А потом показалось, что на него обрушилось небо. Трос распорол руку, прорезав ткань: клин выскочил из дерева. Надсадно гудел ротор.
– Ау!
Взвыв через разбитый нос, Рони отплевался от грязи, кровавой слюны. Упало не небо – это вес хищника на спине. Не справилась оснастка утащить их двоих.
– Я тебя… ш-ш, – Рони подал голос, больше походивший на шипение. Заелозил ужом по брусчатке – и пожалел в тот же миг. Не смоешь грязь с лица – руки завернули к лопаткам. И неясно, от какой боли выть – в голове, будто расколотой, от ребер подбитых или суставов на руках, что в таком положении еще не бывали. – … Убью!
Коршун этой угрозой не впечатлился. Упаковывал его, как мясник колбасу на прилавке. Рони повторил угрозу, но совсем жалостливо: так, что самому тошно стало от своих потуг. Онемение в носу прошло, оставив теплоту хлещущей крови и новую боль.
– Да уймись ты, бешеный, – нагло затребовал коршун. И к Рони вернулся рассудок: хищника злить – еще и вывих обеспечит. Хотя какая ему теперь разница, до эшафота или после с руками прощаться…
Рони то ли рычал, то ли выл. В помутневшем Гэтшире на Бронко-стрит собирались люди.
– А за что его?.. – робко поинтересовался приземистый гражданин, чуть приподняв фетровую шляпку. Матери родной бы так не обрадовался воробей.
До чего же крепкие веревки у чертовых охотников! И ухо начало подмерзать на брусчатке.
– По закону, – отмахнулся коршун. Гражданин все еще колебался, и тут же последовал новый ответ. – Под протекцией графа Йельса.
Судя по звукам за спиной, коршун показал нашивку. И с Рони так и не слез.
Гражданин попятился, и шляпка прильнула к его порозовевшим ушам. Между ними шевельнулась гримаса, а уж затем посыпались слова:
– А. А-а! Извольте, то есть, звиняйте…
Похоже, эту треклятую эмблему каждый пьянчуга в Гэтшире знает, только покажи – сразу прочь.
– Он лжет, – взвыл Рони, забрыкавшись, – постойте же… погодите!
Но его слова облетели улицу, не вызвав и доли сострадания. Ничего особенного – просто то ли убивают, то ли грабят молодого паренька, такого же, каким были и прохожие в свое время. Какими будут или были их дети.
Коршун расположился на нем, будто на тюке с ворованным добром: только сапог у лица и виден. Хороший был сапог с пару недель назад, а теперь весь истерся, черепицей подрезанный. Хоть это в утешение.
– Сначала напал, теперь клевещешь, – деланно обижался коршун за его спиной. – Негоже тому, кто почти летать научился, таким дураком быть.
Позвать бы на помощь – да он сам по себе. Не расступится та кучка зевак, что слетелась на драку. Не выглянет из ряда воробей, свой, из стаи. И даже просто добрый человек, кому жандармы и графья гаже, чем нищие воры. Все добряки померли, раздавлены такими вот сапожищами, такими наглыми приезжими, что потчуются у Йельсов…
И Рони озвучил все то, чему научился в подворотнях Гэтшира: припомнил чужую матушку, которую в глаза не видал. Натравил все невзгоды, смешал с пылью на скатах крыш. Хоть и негоже крыть мастера своего дела такой бранью, будь ты хоть трижды вором. Уж тем более – из клана Рьяных.
А коршун только посмеялся, затянул еще одну петлю на локте, поправил не дошедший клин, позаботившись об оснастке. И ответил тихонько, будто подслушивал их кто:
– Неплохо. Только мать моя лет десять назад померла. Понравилось?
Рони замутило. Потому он обиженно сипел и силился придумать любой план спасения. И как если бы одной беды было мало, послышался топот широченных ног. Кабан. Его одышку и стиль ходьбы Рони запомнил надолго: и смешно, и тоска берет.
Его габариты окончательно отпугнули зевак. Кабан зашумел:
– Фу-ух, еле нагнал. Думал, его к Войке понесло, южней, а…
Коршун, поймавший Рони, молчал. И казались в этом молчании надменность и холод. Рони выдул грязь из ноздрей и отплевался словом:
– Чего увязались, хромые? Дел поважнее не нашли, а? Двое на одного…
Кабан обошел место расправы боком и подсел на корточках по левую сторону: только и видно колени согнутые в выцветших портках да бугристые руки – от локтей до крупных пальцев. И голос у того зычный, только в хоре и сгодится:
– Виктор, глянь: спрашивает, за что вяжем.
– Я не глухой.
Ублюдок уже и ноги перевязал по щиколотке. Так, чтобы не больше половины шажочка сделать. Любит, значит, чтобы понадежнее было. Рони даже брыкаться перестал – чего толку? Плакала его свобода, крылья, жизнь под небом. Будет ли плакать Жанет? Как бы самому сейчас не…
Читать дальше



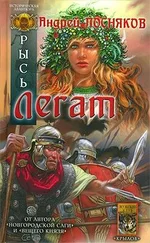
![Роман Прокофьев - Легат [СИ]](/books/384682/roman-prokofev-legat-91-si-thumb.webp)
![Алекс Легат - Гопак для президента [Аполитичный детектив]](/books/421866/aleks-legat-gopak-dlya-prezidenta-apolitichnyj-dete-thumb.webp)





