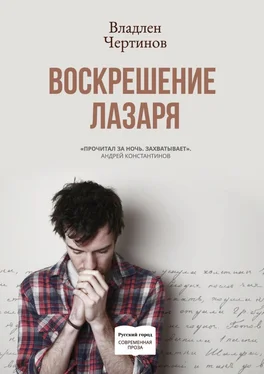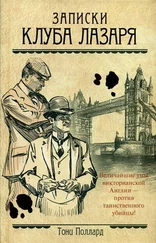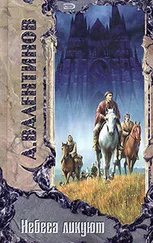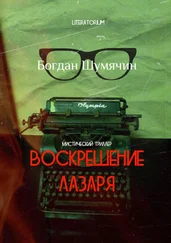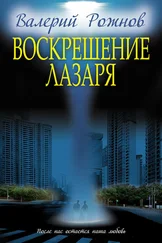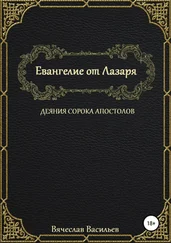Самих же казаков историк Ригельман описывает так: «Они почти все смуглого и румяного лица, волосом черные и черно-русые, острого взгляда, смелы, хитры, остроумны, храбры, горды, самолюбивы, пронырливы и насмешливы».
Преступников, совершивших тяжелый поступок, казаки в старину топили в воде — сажали в мешок, завязывали его, привязывали камень или насыпали песку в мешок и бросали в реку. У казаков это наказание называли «в куль да в воду». Менее провинившихся тоже бросали в воду в мешке, но через некоторое время вытаскивали. Еще распространенным наказанием была порка плетьми. Причем выпороть могли и атамана, если тот допустит какую-нибудь несправедливость — например, неправильно поделит на всех добычу по возвращении из похода. И если утопления в воде со временем прекратились, то порки плетьми продолжались вплоть до 20 века. У Михаила Шолохова в романе «Тихий Дон» описано, как казаки выпороли за «красные взгляды» одного из главных персонажей — Михаила Кошевого.
У казаков была страсть к разным авантюрам. Не зря они совершили много важнейших походов, которые помогли завоевать новые территории для России. Казак Ермак покорил Сибирь, казак Семен Дежнев дошел до Тихого океана. Казаки легко находили общий язык с разными народами, селились в Китае, на Кавказе, и даже в Африке легко адаптировались. Петр Краснов описал, как казаки общались с эфиопами: «Целыми днями толпы эфиопов в белых плащах сидели подле казачьей палатки. А казаки говорили с ними по-эфиопски! Спорили со священниками о вере, рассказывали о своей земле». Краснов рассказал о том, как в только что занятом Пекине один бравый урядник совершенно свободно и бойко говорил по-китайски, как целый отряд кубанских казаков выкупил землю у китайцев, выписал жен с Кубани и поселился в одной из китайских провинций.
Одним из главных занятий казаков была война. Идя в бой они одевались в старую поношенную одежду. Перед атакой вели себя по-разному. Кубанские казаки веселились, пели, плясали лезгинку. Донские — сосредоточенно молились. В бой шли с дикими криками, свистом, гиканьем и улюлюканьем. Перед боем атаман или другой командир должен был разъяснить казакам маневры, которые предстояло совершить. Казаки не терпели непонятных приказов.
На атамане, а позднее казачьем офицере лежала большая ответственность. Казачьи части комплектовались по станичному принципу — часто офицеры были из тех же мест, что и казаки. Офицер знал — если кого-нибудь из подчиненных убьют, то дома, в станице с него спросят, почему и как он погиб. Бойцов берегли, последних сыновей в роду в переднюю линию атаки не ставили (благодаря этой спайке и постаничному комплектованию казачьи части в отличие от остальных в годы первой мировой войны не знали дезертирства).
Пожалуй, лучше всего жизнь и быт казаков описал Лев Толстой в повести «Казаки» где речь идет о гребенских казаках на Кавказе: «Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, ещё до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу