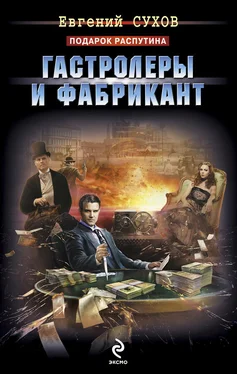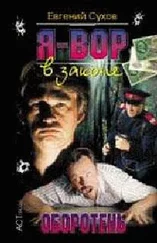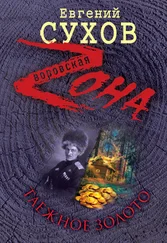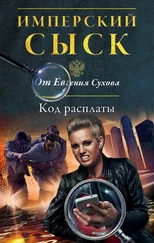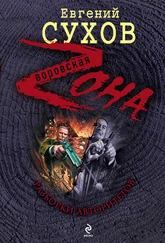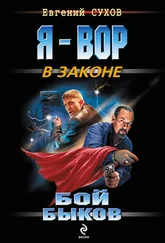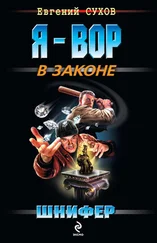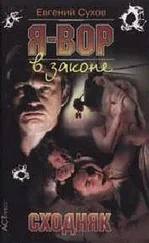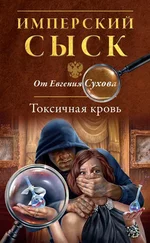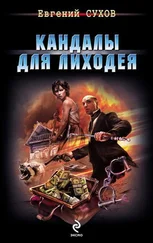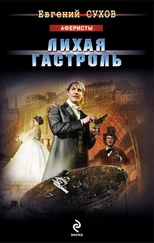«И тогда ты получишь чин статского советника и утверждение в должности полицеймейстера», – хотел добавить Николай Людвигович. Но благоразумно промолчал и вместо этого произнес:
– Слушаюсь, господин Острожский!
– Вот, – Яков Викентьевич передал Розенштейну папку с красными тесемками. – Здесь все, что мне удалось собрать на Долгорукова и его «команду». Конечно, прямых улик на его участие в преступных махинациях и аферах там нет, но косвенные улики – тоже улики, надо полагать? Кроме того, – тут Яков Викентьевич стушевался, что вызвало у его помощника, Розенштейна, некоторое удивление, ибо он еще никогда не видел своего начальника смущенным чем-либо, – я записывал кое-какие свои мысли касательно различных дел, в которых всплывала фамилия Долгоруков. Так что… не судите сии записки слишком строго и… надеюсь, что вам они пригодятся…
– Я вас понял, Яков Викентьевич, – произнес Розенштейн, забирая у начальника папку с красными тесемками. – Не беспокойтесь. Я, несомненно, приложу все усилия, чтобы обнаружить факты, изобличающие преступников. Если таковые, конечно, имеются…
– Имеются, Николай Людвигович, имеются, – безапелляционным тоном заверил своего помощника Острожский. – Можете не сомневаться. А иначе зачем бы я стал давать вам поручение, заблаговременно обреченное на невыполнение? К чему бесполезно сотрясать воздух? Ну и еще повторюсь: у вас на это крайне мало времени.
– А сколько? – поинтересовался Розенштейн.
– Недели две, не больше, – ответил Острожский. – Постарайтесь уложиться в этот срок, договорились?
– Хорошо, – сказал Розенштейн. – Я постараюсь…
Глава 5
Град Свияжский, или «С трудов праведных не наживешь палат каменных»
Октябрь 1888 года
Когда-то Свияжск был городом, вполне сравнимым с Казанью. И даже соперничал с ней по значимости. Было это в первые сто лет его существования. А триста тридцать семь лет назад города не было вовсе. Стоял крутой холм-останец, весь лесом поросший. Молодой государь Иван Васильевич в очередной раз возвращался из Казанского похода, опять неудачного. И остановил свой возок у перевоза через Свияга-реку, чтобы юношеские косточки поразмять да нужду малую справить. Справил. Поразмял. А потом смотрит: место-то зело благоприятственное для крепостицы русской, дабы иметь близ стен казанских базу с воинами и воинскими и продовольственными запасами. Это могло бы сильно облегчить задачу покорения Казани. Однако поставить русскую крепость в этих местах было весьма непросто: по правую и левую от холма стороны жили горные и луговые черемисы – воинственная народность мари, мужчины которой из века в век промышляли охотой. Белку в глаз били, а человека и подавно. Только на горной стороне проживало таковых до сорока тысяч лучников. Не позволили бы они на своих землях просто так город построить.
Чья была мысль построить город-крепость на спокойных русских землях, а затем, разобрав его, свезти на нужное место и быстро собрать – неведомо. Может, эта мысль принадлежала самому государю, может, его зело умному приятелю Алеше Адашеву, может, дьяку Ивану Выродкову, весьма острому умом хитрецу-градоимцу, коему и был поручен надзор за строительством города. Однако город срубили в угличских лесах на Верхней Волге в тысяче верст от Казани, потом разобрали, бревна пометив, и по весне свезли на облюбованный холм. Четыре недели с малым понадобилось, чтобы вновь собрать город. Поначалу медленно рос городок: бревна меченые попутали, помешали по торопливости, и лай, как водится у русских людей, стоял густой. А опосля помалу сладилось – работали молча, споро. И возрос в мае тысяча пятьсот пятьдесят первого года город-крепость со стенами острожными, двумя монастырями и шестью приходскими церквами да домами и хоромами жилыми и прочим, что положено иметь городу по уставу.
Знатен был град Свияжский и при царе Борисе Годунове, и при императоре Петре Первом, и при государыне-императрице Екатерине Великой, даровавшей Свияжску собственный герб – «В голубом поле деревянный город над рекою, а в реке видимы рыбы…». А опосля века восемнадцатого хиреть стал град Свияжский и превратился вскорости в рядовой уездный городишко с несколькими тысячами жителей, всяк друг друга знавших. Пошто так получилось? А вот ты, мил человек, полегче что-нибудь спроси…
Все это, или почти все, уже знал Африканыч, когда вышагивал по замощенной деревом Рождественской улочке Свияжска, держа путь к дому Игнатия Савича Зыбина, летописца местного и краеведа. Было Игнатию Савичу, по слухам, сто четыре года, и тому подтверждением была метрическая запись в четырехпрестольном Рождественском соборе. Но был Зыбин еще в ясном уме и твердой памяти, а иначе Самсон Африканыч Неофитов не пошел бы к нему на беседу, а топал бы доколе к кому иному знающему человеку. Однако более сведущего, нежели Игнатий Савич Зыбин, во всем городе не было, да и быть не могло!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу