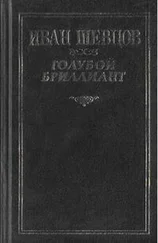— А вот и я, — запыхавшись появился в дверях Женя. — Привет, папа. А я с сенокоса. На клеверах мы были. Я видел, как ты ехал, сразу узнал.
Все это он выпалил одним залпом, веселый, возбужденный, сияющий.
— Ну, докладывай, бабушка, как он себя вел? — шутливо спросил Юрий Иванович.
— По-разному, — ответила Марфа Захаровна и подмигнула внуку.
— А ты в его возрасте всегда слушался?
— Понятно. Значит, бывало, и не слушался.
— Бабушка, это не педагогично: нельзя критиковать родителей в присутствии детей, — озорно ввернул Женя.
— Уж ты все знаешь-то: что можно и что нельзя, — ласково сказала Марфа Захаровна и спохватилась: — Да что ж это я: с дороги, Юра, умыться надо, да покушать. Обед у меня стынет.
Юрий Иванович вышел в сад. Под антоновкой, которую отец посадил той осенью, когда Юра пошел в первый класс, стояла раскладушка — убежище Жени. На антоновке многие ветви были спилены и места срезов аккуратно замазаны масляной краской. Яблок на ней было негусто. «Деревья тоже стареют», — с грустью подумал Добросклонцев. Мысли его спугнул Женя, подошедший тихо:
— Папа, а на Куликово поле поедем?
— Непременно.
— Когда? — В голосе сына звучало нетерпение.
— Да хоть завтра.
— Хорошо бы. А то погода может испортиться, дожди пойдут, — вздохнул Женя. И после паузы, вспомнив, зачем пришел, добавил: — Бабушка зовет кушать.
После щедрого сельского угощения Юрий Иванович вдруг почувствовал усталость: сказывалось напряжение долгого пути. И к тому же мать посоветовала: отдохнул бы с дороги под своей яблоней. Марфа Захаровна вынесла подушку и одеяло, постелила на раскладушке и приказала Жене не включать музыку, пусть, мол, отец отдохнет.
Нагретый воздух, насыщенный свежестью листвы и трав, клонил к приятной дреме, и Добросклонцев, сам того не желая, медленно и благостно погрузился в глубокий сон, такой глубокий, что даже надоедливые мухи не могли его разбудить. Проснулся он от резкого оглушительного шума и треска: казалось, небо упало на землю и разверзлась земная твердь. Он открыл глаза и, поддавшись инстинкту элементарной осторожности, не вставая с раскладушки, коснулся ногами земли. Земля была невредимой, и небо над головой спокойным и невозмутимым. Просто по улице промчался мотоцикл.
Запыленное усталое солнце висело над горизонтом, и казалось, тепло исходило не от него, а от нагретых им за день воздуха и земли.
— Разбудили тебя тарахтельщики, — сокрушенно сказала Марфа Захаровна: она полола грядки в огороде тут же рядом с садом. — Носятся как ошалелые, покоя от них нет. Может, перекусишь? Зеленого лука нарву — и со сметаной. Ты же раньше любил.
— Спасибо, мама, потом. Сейчас хочу просто пройтись, сон сбросить.
Огородами Юрий Иванович вышел за околицу по знакомой исхоженной тропинке, которая вела к речке, когда-то в пору его детства не то что многоводной, но вполне оправдывающей свое название, Голубица. Вода в ней была голубая и прохладная, — должно быть, питали ее родники. Она не пересыхала даже в сухое лето. Сейчас же, к его грусти и огорчению, речка настолько обмелела, что, не намочив ног, он свободно перешел на другой берег по сухому песку. Вспомнил: речка ему часто снится и теперь, но не эта, пересохшая, а та, давнишняя, из довоенного детства, глубоководная, бурная в пору весеннего ледохода и половодья. Он шел медленно, неторопливо вдоль берега, поросшего редким чахлым кустарником. У темного омута задержался. Над омутом росли старые плакучие ивы. Их длинные зеленые пряди касались воды. Легкая томная тишина предвечерья, когда солнце в багряной вуали падает на горизонт, и все вокруг — деревья, строения, поля — все замерло, и ни один листок не шелохнется, когда дивная прелесть природы с ее неповторимыми, медленно угасающими красками, как поздняя любовь, навевает негу и грусть, высекает в памяти сердца лирически-нежные, трепетно-волнующие картины детства, задевает самые чувствительные струны души.
Думы Добросклонцева оборвал характерный, хотя и давно позабытый, топот копыт за спиной, заставил его, повинуясь инстинкту, оглянуться, и в ту же минуту мимо него на полном галопе, едва не задев, проскакали четыре всадника. Один из них на гнедом с лоснящейся шерстью пышногривом коне застопорил метрах в двадцати впереди от Добросклонцева, повернул лошадь и уже шагом пошел навстречу. В лихом всаднике Юрий Иванович узнал своего сына, довольного, разгоряченного, как и конь, с широкой улыбкой на лице. Лошадь была без седла, гладкая, упитанная от безделья; длинные и тонкие ноги Жени, обутые в кеды, нескладно болтались; в правой руке он держал кожаный самодельный кнут, левая рука по-кавалерийски сжимала поводья. Женя явно хотел обратить на себя внимание отца.
Читать дальше