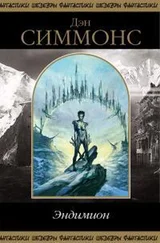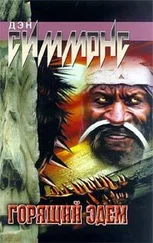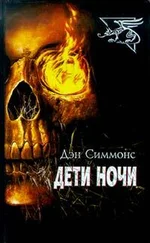Генри Джеймс вступал в шестой десяток и в эти черные часы сомневался, что хоть одно из его литературных детищ переживет своего плодовитого отца больше чем на несколько лет.
Попытки добиться от собратьев по перу, пусть только от младших, обращения «мэтр» и те закончились крахом. Если они и соглашались так говорить, это звучало шуткой. Нет, не будет у него никакого «литературного памятника», выстроенного упорными трудами «по кирпичику». Что до временных «памятников», которые он такими усилиями возвел, шакалы-критики и впрямь на них мочились, назойливые буржуа – особенно в Америке – взбирались на самый верх и ножами или ногтями царапали свои инициалы на любовно отшлифованных камнях.
Всего несколько лет назад он написал рассказ «Колесо времени», который находил чрезвычайно удачным. Главный герой – еще одно отражение его самого как бы в тусклом стекле – в свой сорок девятый день рождения размышляет о далекой юности. О юности…
Он сожалел о ней и тосковал, силился вернуть, но сейчас, в Лондоне, чувствовал себя так, будто она ушла безвозвратно. Может быть, есть некое утешение в том, чтобы достигнуть пятидесятилетия, некий поворот тусклой подзорной трубы, взгляд со взлобья холма: круглое, большое, глупое число, которое, возможно, заставит почувствовать себя важным и маститым. Так или иначе, сорок девять лет – ужасающий возраст.
Однако теперь, когда круглое, одиозное число пятьдесят неслось на него, как товарный состав в ночи – такое же глухое, пугающее, неотвратимое, – он отдал бы все, чтобы остаться сорокадевятилетним навеки или, если это невозможно, хотя бы на ближайшие годы.
Джеймс с ужасом осознал, что на глаза у него наворачиваются слезы. Быть может, розовый американский поросенок Тедди Рузвельт все-таки сказал правду. Быть может, он, Джеймс, и впрямь обабился и в мыслях, и в творчестве.
* * *
Джеймс ощущал мучительную потребность написать кому-нибудь письмо, но понимал, что не может этого сделать: его поездка в Америку должна оставаться тайной и для друзей, и для эпистолярных собеседников.
Снова вздор. Генри Джеймс писал кому-нибудь, чаще многим, каждый день своей жизни. В определенном смысле именно письма – те, что он писал, и те, что получал, – и составляли его связь с жизнью.
Сейчас он чувствовал непреодолимую потребность изложить Констанции Фенимор Вулсон все, что произошло с ним в последние недели. В марте ей исполнилось пятьдесят три – Джеймс тогда в изящно-уклончивых выражениях поздравил ее с днем рождения. Возможно, Фенимор поймет его чувства по поводу пятидесятилетия. Насколько он помнил, они с ней никогда не говорили о приближающейся старости. С Фенимор, американской писательницей, живущей, как и Генри Джеймс, в добровольном европейском изгнании уже много десятилетий, его связывало некое подобие романтических отношений – самое близкое подобие, которое он когда-либо допускал с женщиной.
Разумеется, он не испытывал влечения к Фенимор, по крайней мере чувственного, – мысль о нагом женском теле импонировала ему только в случае очень немногих классических картин и статуй. Лишь мужская нагота рождала в нем глубокое и непонятное волнение с того самого дня, когда он вошел к брату Уильяму в рисовальную студию и увидел позирующего голым кузена Гаса. И тем не менее, пока они несколько недель кряду жили на съемной вилле Фенимор в Беллосгвардо (Фенимор на верхнем этаже, Джеймс – в своих удобных комнатах на нижнем), он отчасти понял, каково это – делить кров с женщиной.
Быть женатым.
Разумеется, Фенимор очень во многом напоминала мужчину: решительностью, независимостью, писательской хваткой, готовностью прервать даже самую приятную беседу с Джеймсом, когда они вместе любовались закатом с широкой террасы виллы Брикьери на окраине Беллосгвардо, и вернуться за письменный стол, – и все же она оставалась женщиной с женскими загадками. После того как Фенимор покинула свой съемный дом в Оксфорде, Джеймс не один месяц гадал, зачем она вообще приезжала в сумеречную зимнюю Англию, так угнетавшую эту солнцелюбивую натуру. Лишь задним числом пришло осознание ее цели: она хотела быть рядом, пока умирала его сестра Алиса.
Быть рядом. Все эти месяцы меланхолическое присутствие Фенимор воспринималось как часть фона, и лишь когда она уехала, обиженная, если не оскорбленная, он заметил образовавшуюся пустоту.
Фенимор можно было бы изобразить в книге как забавную сумасбродку – особенно комичную из-за глуховатости, которую она не хотела признавать и которая крайне затрудняла разговоры с нею, особенно в салоне или людном публичном месте. Однако Джеймс знал, что она не сумасброднее его. Скорее уж менее сумасбродна. По крайней мере, у Фенимор, насколько он знал, не было потаенных секретов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу