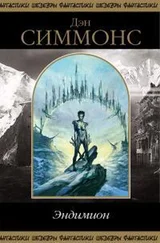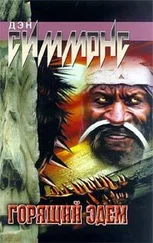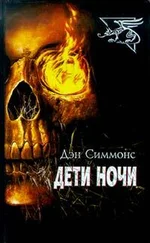Да, царство, но по моим меркам – по нашим меркам, мой отсутствующий, но всегда близкий друг, – жалкое королевство, населенное невежественными мерзавцами-директорами и тупыми лицедеями.
А совсем недавно, когда он лежал с приступом подагры, до решения отправиться в Париж, Джеймс написал Стивенсону:
Не осуждайте меня: суровая необходимость ухватила меня грубой рукой и вынуждает хоть как-нибудь зарабатывать деньги, которые я не могу заработать литературой… Мои книги не продаются, а вот пьесы, судя по всему, будут продаваться… Посему я собираюсь с духом написать их штук шесть.
Сегодня, апрельским вечером 1893 года, в пятницу, всего за восемь дней до своего пятидесятилетия, Джеймс осознал, что так и не научился писать для театра. Тем не менее он привез с собой в Америку три законченные комедии, драму, написанную для конкретной актрисы, которая теперь уже по возрасту не могла сыграть созданную специально для нее роль, черновые заметки к еще пяти возможным пьесам и наброски первых трех актов серьезной драмы под предварительным названием «Гай Домвилл».
В ранних черновиках был список возможных имен для заглавного героя, единственного отпрыска богатой семьи, вызванного из монастыря и стоящего перед дилеммой: стать священником или жениться и продолжить род. Джеймс также сохранил заметки, сделанные много лет назад в Венеции, где он услышал историю послушника, поставленного перед выбором: либо отказаться от обетов, либо допустить, что их род прервется. Тогда писатель предполагал, что из этого может получиться рассказ, и даже записал черновое название – «Герой»:
Ситуация юноши из древней венецианской семьи (забыл какой), который стал монахом и которого почти насильно вытащили из монастыря в мир: чтобы род не пресекся – ему совершенно необходимо жениться.
От названия «Герой» для пьесы Джеймс отказался давно. Он добавил еще несколько драматических – возможно, мелодраматических – уровней к выбору, который предстоит сделать герою, и решил, что в списке возможных фамилий, занимавшем в записных книжках две страницы, самая удачная – Домвилл. Куда больше времени потребовалось, чтобы остановиться на имени для заглавного персонажа. Черновое «Бой» (Джеймсу нравилось звучание) за последние месяцы превратилось в «Гай». Гай Домвилл. Уже было ясно, что действие пьесы не будет происходить в Венеции.
Однако как поступит чрезвычайно мужественный герой – согласится на брак без любви (в который пытается втянуть его негодяй с негодяйской фамилией Денвиш) или переборет искушение, отринет жизнь, любовь, семью и будущее знатного рода ради монастыря и хладного безбрачия?
Лежа в почти полной тьме – озерцо света от ночника захватывало лишь его бледные руки и маленькую стопку записных книжек, – Джеймс воображал, что двойное самоотречение в финале пьесы исторгнет у чувствительных зрителей слезы. Он видел, как изысканно одетый актер восклицает: «Милорд, я последний из Домвиллов!» Все в зале будут либо рыдать, либо потрясенно молчать.
Но будут ли?
Джеймс готов был расплакаться. Ему хотелось, чтобы вернулся Шерлок Холмс.
* * *
На следующее утро, в субботу, ровно за неделю до пугающего дня рождения, только что позавтракав – Грегори со всегдашней бесшумной расторопностью забрал поднос, как только Джеймс позвонил в колокольчик, – и облачившись в прекрасно скроенный костюм, коричневый в тонкую полоску, Генри Джеймс сел за стол у окна, в которое струился весенний свет, и написал следующее:
Среди проволочек, разочарований, déboires [28] Неприятный привкус во рту после выпитого (фр.) .
гнусного театрального ремесла ничто так не утешает, как мысль, что литература тихо ждет под моей дверью и довольно отодвинуть щеколду, чтобы впустить эту изящную маленькую особу, которая, что ни говори, мне дороже всего и от которой я по-прежнему не готов отказаться. Я впускаю ее, и дивные часы возвращаются; я проживаю их вновь, добавляю еще кирпичик к тому скромному литературному памятнику, что мне выпало воздвигнуть.
Джеймс остановился и перечел написанное.
Вздор. Сентиментальный вздор. Джеймс посвятил себя зарабатыванию денег пьесами для театра, и не было такой щеколды, которую он мог отодвинуть, чтобы милые его сердцу (и неприбыльные) литературные труды на цыпочках вошли в дом.
А что за самовлюбленное лепетание про «скромный литературный памятник», который он возводит себе по кирпичику? Флобер когда-то дал на подобные представления очень точный ответ: «Книги не рождаются, как дети, они строятся, как пирамиды, и столь же бесполезны. Все равно они стоят в пустыне, шакалы на них мочатся, буржуа взбираются…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу