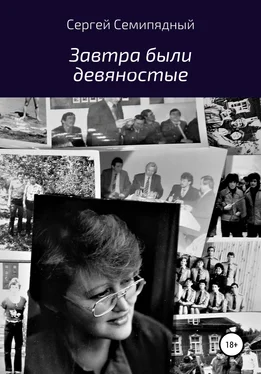С суеверием придумавшего погребальный обряд неандертальца посматривая в сторону гроба с телом Зудитова, к холму выброшенной из могильной ямы земли выдвинулся Марсик, мощный и близорукий, как носорог, сурово помолчал, заговорил:
– Друзья, сегодня мы провожаем в последний путь нашего товарища. Как говорят, одного из нас. Он прошёл не длинный путь, и это особенно печально, но путь – достойный. Он отдавал все силы борьбе за права человека, но самому ему сил не хватило – он пал жертвой тоталитарной системы…
Оратор стоял на муравьиной тропе и давил, не замечая, черно-бурых муравьёв. И говорил, в паузах скорбно смыкая губы. Смысл его речи сводился к тому, что человеческая жизнь не ограничивается биологическими сроками существования организма. Валентин Марсик, дежурный электрик и социолог, пытался обострённое ситуацией сознание факта человеческой смертности нейтрализовать стимулированием у присутствующих ощущения коллективной вечности. Завоевать умы людей легче всего построением ясных картин будущего, особенно – загробного. Однако Марсик был атеистом, и потому чего-либо грандиозного, за исключением сохранения памяти о покойном в сердцах его товарищей, он обещать не мог. И он обещал сохранение памяти в сердцах самих себя не успевающих познать растерянных его товарищей, стремительно несомых к смерти, которая только и могла усмирить и объединить мирки взбудораженных одиночеств.
В заключение Марсик перешёл на стихи:
небытие от одиночества уходят,
через последний бросившись барьер.
Ну а сначала долго вдоль барьера бродят,
не глядя в оползающий карьер.
Полубезумным взглядом ищут горизонты,
под лица-маски силясь заглянуть,
но там и тут – лишь отчужденья тусклый зонтик
и равнодушия удушливая жуть.
И пресс отчаянья шлагбаум отодвинет,
из страшного в нестрашный перекрасив цвет
границу между «ЕСТЬ» и «НАВСЕГДА ВСЁ СГИНЕТ»,
границу между «-ДЦАТЬ» и «МНОГО-МНОГО» лет.
Позади Марсика вертелся и бросал шуршащие фразы направо, налево и назад Бякин, светло-серым костюмом, красной спортивной сумкой и говорливостью похожий на попугая жако, живого, но изрядно пощипанного. С бессознательной последовательностью одержимого навязчивой идеей он делал шаг или два вперёд, взмахивая рукой, приоткрывал рот, однако Марсика не перебивал – возвращался на прежнее место. Но лишь произнёс Марсик последнее слово, Бякин прервал свой танец пчелы, подскочил к бывшему оратору и, нетерпеливым поталкиванием в плечо понуждая Марсика посторониться – в чём, впрочем, необходимости не было, – взмахнул правой рукой… Следовало, казалось, ожидать взрыва выхода из лёгких дикого вопля – так энергично распахнулся рот Бякина, – однако крика не случилось, заговорил Бякин неожиданно приглушённой скороговоркой. И несколько старух с облегчением перекрестились.
Речь Бякин подготовил недостаточно хорошо. Несмотря на длительное, если судить по предшествующим речи конвульсиям, ожидание. И мысли его, измятые эмоциональными волнами, являлись окружающим необработанным, примитивным, наполовину жестовым лепетом. Бякину следовало бы взять пример с человекообразных обезьян, которые думают больше, чем говорят. Ему бы попридержать двигательные реакции неугомонных конечностей, установить контроль над притоком раздражителей да собрать в один пучок лучики расхлябанного сознания. Ему бы помолчать, опустив голову, потом обвести всех скорбным взглядом да и сказать несколько добрых слов об умершем. Или – лучше – помолчать всем вместе пять, пятнадцать, тридцать минут… Впрочем, вымри одновременно и половина всех живых существ сопредельных измерений, и это едва ли чему научит их.
А речь Бякина, сбивчивая и несвязная, в которой и было-то всего двадцать восемь слов вместе с предлогами и междометиями, дробью выброшенного карманного мусора прошелестела по листьям берёз и осыпалась птичьим помётом на землю. Берёза с подрубленными корнями шумела, освобождаясь от листвы, а участники похорон испытывали почти подсознательный ужас, словно они не земле предавали сородича, а бальзамировали разлагающийся труп. Не конечная, но, похоже, исторически последняя ступень эволюции – человек, этот потомок комков протоплазмы, в конкуренции за пищу в одной экологической нише вытеснил близкородственные виды и, самоутверждаясь, лишил природу какой бы то ни было неприкосновенности, признал её сырьём и… И заболел, грубо говоря, отсутствием целостного восприятия природы и нормального общения с нею. Утратив дочеловеческую гармонию, они, напрягая мозговые мышцы, тысячи лет топчутся у одной из развилок эволюции под предлогом искания смысла жизни.
Читать дальше