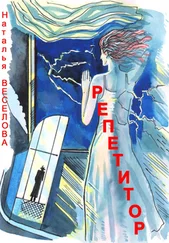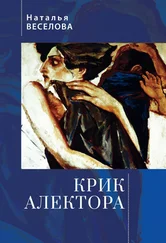«Да какой там Рихтер! Если дело так и дальше пойдет, то Рихтера этого ваш мальчик скоро мелко видеть будет!» – постановила спустя две недели Елена Ивановна, учитель музыки в купчинской типовой школе, прослушав по просьбе знакомых стеснительного мальчонку с каштановой челкой и серьезными карими глазами. Она позволила ему позабавиться с видавшим виды школьным фортепьяно, потеребить кремового цвета клавиши с мелкими трещинками, и, внимательно прислушавшись к извлеченным из черного облезлого брюха школьного «инструмента» звукам, предложила заниматься частным образом у нее дома, плату запросив неожиданно умеренную. Елена Ивановна оказалась честным человеком: на мамино удивление смехотворностью запрошенной суммы, ответила, не дрогнув: «Это для того, чтобы стоимость уроков не стала для вас решающим фактором. Музыкальных дебилов, чьи родители надеются сделать из них выдающихся исполнителей и платят по полной за мои ежедневные муки с их чадами, у меня достаточно. А ваш ребенок должен заниматься в любом случае – неважно, есть у вас деньги или нет. Закопать такой талант вы не имеете права – ни по какой причине. А раз случай или – называйте, как хотите – привел вас ко мне, то и я не могу отказываться. Не все за деньги в этом мире делается…».
Елена Ивановна не только поставила Бетховену руку, внедрила в его восприимчивую голову твердые теоретические знания, заложила основы будущей технической виртуозности, подготовила к поступлению в музыкальную школу при Консерватории. Она сумела заставить его самого словно прорасти в мир звуков – или, может быть, прорастить все самые прекрасные звуки мира в себе – а не просто научиться красиво извлекать их из коллекционного рояля от «Теодора Беттинга», унаследованного ею от чудом сохранивших его в революцию предков и любовно отреставрированного в новое время одним из штатных настройщиков Мариинки… «Мой рояль среди других роялей, – шутила она, – как скрипка Страдивари среди всех прочих…». Это еще не все – у нее, не имеющей даже традиционной кошки толстой и потной старой девы в роговых очках и с тощим кукишем на затылке, любимый инструмент был вместо родного существа, нуждающегося в ласке и заботе и страдающего в ее отсутствие… Может, действительно дело было в волшебном рояле – кто знает! И правда, вполне достойный «Красный Октябрь» из комиссионки, на который, просовещавшись на кухне всю ночь и к утру приняв жизненно важное решение, однажды разорились родители, не зачаровывал так своими звуками, не гудел так таинственно и нежно сумрачным духовитым нутром, не вызывал порой в сердце таких неодолимо подступающих рыданий… Музыка стала для Бетховена праздником и счастьем – а не предначертанной карьерой неизменного победителя скучных музыкальных конкурсов и юношеских никчемных олимпиад… Он бы, если б не довлела предначертанность, может, даже и не сделал бы музыку своей профессией, смутно чувствуя, что получать деньги за то чувство гармонии и восторга, которое она ему давала – все равно что брать плату за близость с любимой женщиной или за долгую глубокую беседу с истинным другом… Но других путей, как будто и не виделось: иные области человеческих занятий, особенно те, что зиждились на точных науках или технике, вызывали у него явное и тошнотворное неприятие, доходя даже до проявлений его самого пугавшего идиотизма. Например, упражнения по алгебре и геометрии в школе, что в простоте своей были подвластны даже тем, кто давно и безнадежно болтался между двойкой и тройкой, никогда не поддавались Бетховену – с каким бы отчаяньем обреченного он ни кидался на штурм… Да и родителей так подкосить было невозможно: причины им ни при какой погоде не объяснишь – а ведь высшей гордостью и счастьем стал для них, простых трудовых людей, нежданно, будто с неба упавший к ним талантливый сын-музыкант, после школы сразу принятый в недоступную, как далекая зеленая звезда, Консерваторию по классу фортепьяно, сын, которому предстояло еще и еще раз подтвердить для всего мира ту загадочную истину, что – вот может же быть, ядрена вошь!
В самом начале второго курса его совершеннолетие скромно отпраздновали дома с сияющими родителями, новым другом-валторнистом и стеснительной, впервые приведенной в дом одногруппницей Наденькой, с которой Бетховен только утром первый раз поцеловался в своем подъезде и оттого был совершенно неприлично (все время приходилось украдкой поглядывать на ширинку) счастлив. А через неделю пришла повестка в парадоксально всеми позабытый и по той причине раньше в расчет не принятый военкомат. Мама сама ходила к декану – и получила полную и закономерную его поддержку: такого талантливого студента можно считать частью золотого фонда страны, и уж конечно отсрочку ему сейчас выхлопочут, а там… «Не надо, – неожиданно уперся несуществующим рогом безусый юноша. – Отслужу, как все. Не сахарный. Я комсомолец. Мой талант теперь никуда не денется. Но благодаря государству он развивался. Это оно меня бесплатно учило и воспитывало. Я ему обязан. И точка на том». Терпеть не мог, всеми силами души презирал Бетховен здоровых парней «кровь с молоком», объявляющих себя чуть ли не инвалидами, охотно записывающихся в сумасшедшие – и все для того, чтобы не послужить Отечеству, как всякий нормальный мужчина от века обязан. С души воротило, когда слышал их сучье скуление: «Не всем же по окопам с автоматом бегать… Я, например, Родине послужу своим талантом…». Ага, Родине, как же… Себе ты послужишь, а не Родине. А служить – это значит, не как сам хочешь, а как долг требует. Тьфу, ур-роды…
Читать дальше