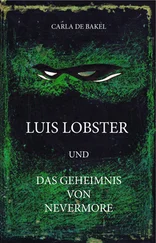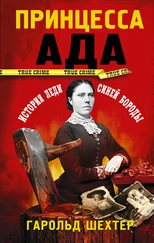Когда понемногу дар связной речи вернулся к нему, он сумел описать пережитые мучения. Хотя внешне он казался бесчувственным, на всем протяжении этой пытки слух его оставался ненарушенным, и он с обостренной ужасом отчетливостью воспринимал каждый звук, коим сопровождалось погребение: стук опущенной крышки, грохот катафалка, плач родных, горестный град падавших на крышку гроба комьев земли. И все же полный паралич не позволил ему ни звуком, ни жестом привлечь внимание окружающих к своему безнадежному состоянию, покуда крайнее отчаяние не извергло поток безумных воплей из самых недр изнуренной страхом души.
Что-то в этом рассказе до такой степени подействовало на мое воображение, что я остался сидеть над книгой, погрузившись в раздумье, и незаметно провалился в дневное видение — или, скорее, кошмар. Я утратил представление о времени. Знакомая обстановка — небольшая, сумрачная комната со скудной меблировкой и черной шторой на окне — словно растворилась, и тьма поглотила меня. Сжались удушающие объятия могилы.
Я уже не просто сопереживал страданиям заживо погребенных; я сам испытывал их столь же явно, как если бы мое все еще живое тело было по неведению опущено в могилу.
Я мог чувствовать, слышать, ощущать каждую подробность постигшего меня бедствия: нестерпимо сдавлены легкие — липнет к телу саван — давит гроб — равномерно стучит лопата могильщика — незримое, но внятное приближение Червя-Победителя.
Вопль истинной муки бился в моей гортани. Я раскрыл спекшиеся от ужаса губы, молясь, чтобы этот вопль избавил меня от несказанных терзаний в могиле.
Но прежде чем я испустил предсмертный крик (который, без сомнения, всполошил бы всю округу и причинил мне большое смущение), сквозь плотную ткань фантазии забрезжило смутное сознание действительного моего положения.
Внезапно я постиг, что звуки, принятые мною за стук лопаты, на самом деле представляли собой глухие удары в дверь: какой-то неведомый посетитель стоял у входа в мое обиталище, точнее — у входа в обиталище, которое я разделяю с возлюбленной тетей Марией и ее ангелоподобной дочерью, моей милой маленькой кузиной Виргинией.
Я вытащил из кармана носовой платок и, застонав от облегчения, утер влагу, что выступила на моем челе во время граничившей с явью фантазии. Отложив трактат Вальдемарара, я прислушался к тому, что доносилось от двери. Сначала раздались четкие шаги моей святой «Матушки» (так я любовно называю свою тетю в благодарность за ее материнское обо мне попечение), которая спешила отворить дверь. Затем, уже не столь разборчиво, донесся ее голос, приветствовавший посетителя.
Мгновение спустя уверенная поступь эхом отдалась в коридор, а затем последовал сильный, решительный стук в дверь кабинета.
Стряхнув с себя пережитый ужас, все еще льнувший к моей душе, я пригласил посетителя войти. Дверь резко распахнулась, и в проеме показался высокий широкоплечий человек. Мгновение он стоял так, неодобрительно озирая мое жилище, после чего вынес приговор столь громогласно, что его слова отдались в моих ушах, подобно пушечному выстрелу. И не только звучность этой реплики поразила меня, но и ее содержание.
— Чтоб я провалился — темно, как у крота в норе! — пророкотал незнакомец.
Столь неожиданным было замечание, что я инстинктивно повернулся в кресле и раздернул тяжелые шторы, заслонявшие окно у меня за спиной. Час был поздний (приближалось время ужина), погода плохая, а потому лишь скудный дневной луч присоединился к свету настольной лампы. Однако дополнительное освещение позволило мне лучше разглядеть гостя.
Впечатляющая фигура. Хотя роста ему немного недоставало до полных шести футов, сложения он был поистине геркулесова. Главным образом такое впечатление производила очень прямая, военная осанка и необычайная ширина плеч и груди. Густые черные волосы обрамляли не менее выразительное лицо. Что-то в этих чертах — пронзительно-голубые глаза, ястребиный нос, выдающийся вперед подбородок — говорило о безграничной силе, таящейся внутри, и о решимости. К этому следовало добавить не столь явное, но все же отчетливо ощутимое добродушие. И все же самой замечательной особенностью этой физиономии был густой румянец, предполагавший суровую жизнь на открытом воздухе.
Последнее наблюдение подтверждалось и одеждой: хотя это был вполне безукоризненный с точки зрения покроя и моды костюм — сюртук с высоким воротником, серые в полоску брюки, накрахмаленная манишка и лазоревый галстук, — формальное облачение явно стесняло своего хозяина, привыкшего, по-видимому, к более свободному наряду фермера или охотника.
Читать дальше
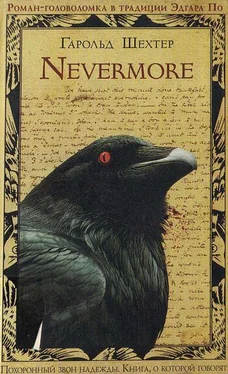
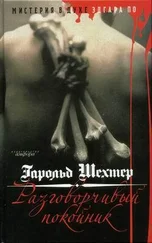


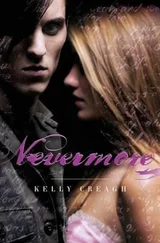

![Гарольд Шехтер - Принцесса ада [litres]](/books/399147/garold-shehter-princessa-ada-litres-thumb.webp)