— Мистер Кин!
Он вцепился в руку своего знакомого, словно боясь, что иначе тот запросто растворится в воздухе.
— Вы должны перейти в мою ложу! — категорически заявил мистер Саттертуэйт. — Вы один или с друзьями?
— Я один и сижу в партере, — улыбнулся мистер Кин.
— Стало быть, решено! — облегченно вздохнул мистер Саттертуэйт.
Стороннего наблюдателя, если бы таковой случился, его поведение, пожалуй, могло бы позабавить.
— Благодарю, — сказал мистер Кин.
— Ах, да за что же?! Я так рад встрече с вами! Я и не знал, что вы любите музыку.
— Признаться, у меня есть резон питать особое пристрастие к «Pagliacci».
— Ну конечно, — понимающе закивал мистер Саттертуэйт. — Еще бы вам не питать пристрастия к «Pagliacci»! — Хотя, спроси его, почему, собственно, его друг должен питать пристрастие к «Pagliacci», он вряд ли бы дал вразумительный ответ.
После первого звонка они вернулись в ложу и, наклонившись над барьером, смотрели, как зал постепенно заполняется.
— Взгляните, какая прекрасная головка, — заметил вдруг мистер Саттертуэйт.
Девушка, на которую указывал его бинокль, сидела в партере почти под ними. Лица ее не было видно — только золото гладко зачесанных волос да изгиб шеи.
— Греческая головка! — благоговейно произнес мистер Саттертуэйт. — Классические линии! — Он счастливо вздохнул. — Поразительно, как мало женщин, которых волосы по-настоящему украшают. Сейчас, когда в моду вошли короткие стрижки, это стало еще заметнее.
— Вы наблюдательны, — сказал мистер Кин.
— Да, — согласился мистер Саттертуэйт. — Я умею смотреть и видеть. Эту головку, например, я сразу приметил. Интересно было бы взглянуть на лицо! Впрочем, оно наверняка нас разочарует. Ну, разве что один шанс из тысячи…
Не успел он договорить, как свет стал гаснуть, послышался властный стук палочки о дирижерский пульт, и опера началась. Сегодня пел новый тенор, которого называли «вторым Карузо» [170]. Газеты с завидной последовательностью объявляли его то югославом, то чехом, то албанцем, то венгром, то болгарином. В Альберт-Холле [171]прошел его концерт, на котором он исполнял песни своих родных гор. Музыкальный лад этих диковинных песен содержал необычно много полутонов — перед концертом пришлось даже специально перестраивать инструменты — и кто-то из критиков уже окрестил их «чересчур загадочными». Настоящие музыканты, однако, воздерживались от оценок, резонно полагая, что сначала слух должен привыкнуть к новому необычному звучанию. Так или иначе, для многих сегодня было огромным облегчением убедиться, что Йоашбим, как и все, умеет петь на обычном итальянском языке, со всеми положенными чувствительными тремоло [172].
Первый акт закончился, занавес упал, грянули аплодисменты. Мистер Саттертуэйт обернулся к своему другу. Он сознавал, что от него ждут авторитетного суждения, и немного рисовался. В конце концов, как критик он не ошибался почти никогда.
— Несомненный талант, — тихонько кивнув, проговорил он.
— Вы так думаете?
— Голос не хуже, чем у Карузо. Публика не сразу это поймет, поскольку у него пока еще не совсем совершенная техника: иногда он неуверенно начинает, кое-где слишком резко обрывает, но голос — голос потрясающий!
— Я был на его концерте в Альберт-Холле, — заметил мистер Кин.
— Правда? А я вот не выбрался.
— Его «Пастушья песня» произвела настоящий фурор.
— Да, я читал, — сказал мистер Саттертуэйт. — Это та, в которой рефрен [173]всякий раз обрывается на высочайшей ноте^ — где-то между ля и си-бемоль? Любопытно!
Йоашбим еще трижды выходил на аплодисменты и с улыбкой раскланивался. Наконец зажегся свет, и зрители потянулись из зала. Мистер Саттертуэйт придвинулся поближе к барьеру, чтобы еще раз взглянуть на девушку с золотыми волосами. Девушка встала, поправила шарфик и обернулась…
У мистера Саттертуэйта вдруг перехватило дыхание. Он знал, что на свете бывают лица, удел которых — вершить историю… Пока она со своим спутником пробиралась между Креслами, мужчины оглядывались и уже не могли отвести от нее глаз.
«Вот она, истинная красота, — сказал себе мистер Саттертуэйт. — Не шарм, не обаяние, не притягательность, не все то, о чем мы так любим порассуждать, — а красота! Вот она, чистота линий. Овал лица, изгиб бровей..»
— «Так вот краса, что в путь суда подвигла» [174],— тихонько пробормотал он. Впервые он почувствовал эту строку по-настоящему.
Мистер Саттертуэйт оглянулся на гостя. Тот следил за ним с выражением такого понимания и сочувствия, что слова, казалось, были излишни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
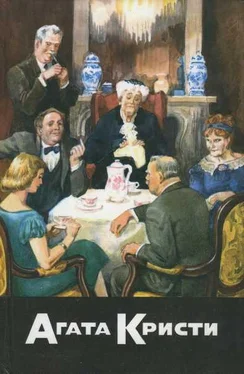

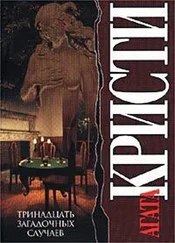
![Агата Кристи - Мистер Паркер Пайн [сборник]](/books/31896/agata-kristi-mister-parker-pajn-sbornik-thumb.webp)
![Агата Кристи - Большая четверка [английский и русский параллельные тексты]](/books/33251/agata-kristi-bolshaya-chetverka-anglijskij-i-russki-thumb.webp)







